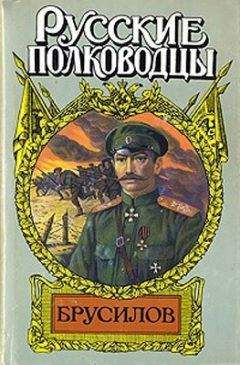Юрий Слезкин - Столовая гора
— Как вы думаете, они не очень обиделись? — спрашивает Алексей Васильевич у Милочки. Ему несколько не по себе от воспоминаний, внезапно овладевших им.
— Пожалуй, надо было быть несколько осторожнее… эти восточные люди, эти пролетарские поэты…
Алексей Васильевич невольно оглядывается. Но вокруг темно. Гул голосов значительно опередил их. Слышен только придушенный клекот Терека, душно, пахнет магнолиями. Кавказская ночь — бархатный полог, расшитый золотыми звездами. Нечто вроде катафалка по первому разряду.
Алексей Васильевич снова поводит широкими, плоскими своими плечами, палочка стучит по асфальту — неприятно и сухо. Вообще в такую ночь можно ждать чего угодно.
Милочка залетела вперед. Она никак не может соразмерить своего шага с шагом Алексея Васильевича. Она то побежит, то остановится, как собачонка, которую хозяин взял с собой погулять. Ее уносят вперед ее мысли. Потом она останавливается в недоумении — столько неразрешимых вопросов на каждом шагу.
Ночью все дороги темны — везде тайна. Самое небо кажется близким и вместе недостижимым, прекрасным.
— Вы спрашивали меня о чем-то?
Она вытягивает шею, пытаясь в темноте — в жаркой черноте — разглядеть лицо своего спутника.
— Да, спрашивал,— раздраженно отвечает Алексей Васильевич,— и вообще у вас странная манера прогуливаться.
— Вы сердитесь?
Милочка искренно огорчена. Она вовсе не хотела обидеть. Этот диспут возбудил в ней столько противоречивых мыслей. Пушкин — гений, в этом она никогда не сомневалась, но чтобы один человек мог одновременно быть и революционером и контрреволюционером — этого она себе представить не могла. Но это еще не все. На каждом шагу, на каждом шагу встречаются противоречия — нет сил их разрешить. Ведь вот то, что происходит теперь. Ведь это огромно, величественно, незабываемо — она это чувствует всем существом, несмотря на личные невзгоды… Несмотря на то, что их грабили и ингуши, и осетины, и буденовцы, и бедной мамочке нужно с утра до вечера не отходить от плиты, превратиться в кухарку, прачку… Все-таки она может отрешиться от личного, у нее на это хватает сознательности… Но вот Алексей Васильевич… Она уважает его, преклоняется перед его знаниями… Но он совсем, совсем чужой ей, даже чуть жалок… Он везде, во всем видит только одни курьезы, ералаш, уродство… А Халил… Нет, Халил совсем другой… Совсем другой, но бедный… Ночь, ночь, боже, какая ночь!
— Алексей Васильевич, вы слышите, как кричат цикады, как поет Терек, как шелестят листья?.. Вы хотели бы когда-нибудь подняться в горы, Алексей Васильевич, туда, где снег? Если вдохнуть воздух полной грудью, то и сейчас можно ощутить свежее, чистое веяние снега…
6
Алексей Васильевич останавливается, достает папиросу, закуривает, подносит зажженную спичку к Милочкиному лицу.
— Да вы не девушка, а динамит! — говорит он с обычной своей усмешкой.— Настоящий динамит!.. Малейшая искра может воспламенить вас, объять пламенем…
Он приглядывается, сощурившись, к девушке. В мгновенном желтом свете спички видит ее глаза — восторженные, жадные глаза, лапчатые брови, нос с широкими ноздрями. Вместе с любопытством в Алексее Васильевиче шевелится легкая досада, похожая на зависть.
— Вы молоды — вот в чем дело. Вы хотите в один день прожить целую жизнь.
— А разве в эти годы мы не пережили столько, сколько раньше хватило бы на многие жизни?
— С избытком,— улыбаясь, вторит Алексей Васильевич,— с избытком и даже через край… Пожалуй, можно было бы чуть меньше… Но я не спорю — нет, нет… Напротив. Мы пережили много — золотые ваши слова. Да, да… Вот почему я вас спрашиваю: не очень ли они обиделись?.. Вы понимаете вопрос — во мне говорит опыт… Некоторая доля осторожности…
— Я все-таки не понимаю…
— Ну, конечно… Я готов пояснить. Вы знаете, почему я выступил на диспуте. Я получил повестку, в некотором роде приглашение от вашего цеха. Своеобразный вызов, я хочу сказать… Кажется, там была и ваша подпись, как секретаря…
— Была,— с решимостью подтверждает Милочка. Она не имеет привычки скрывать и прятаться.
— Вот именно… Черным по белому там было сказано: «Цех пролетарских поэтов приглашает вас записаться оппонентом на прения о творчестве Пушкина. Несогласие ваше цехом поэтов будет сочтено за отсутствие гражданского мужества, о чем будет объявлено на вечере»… Если не ошибаюсь, именно так это и было написано?
— Слово в слово, Алексей Васильевич. Я сознаю теперь, что это глупо.
Желтая искорка папиросы описывает круг, палочка постукивает по асфальту отрывисто, сухо. Ставит точки.
— Золотые ваши слова, Милочка, золотые ваши слова, именно — глупо. Но в том-то и дело, что по нынешним временам приходится считаться с глупостью, глупость приобрела все права гражданства и не всегда возможно ею пренебрегать. Вот почему я выступил на диспуте.
— И произнесли великолепную речь…
— Своего рода великолепную глупость, хотите вы сказать? Не спорю. Одна глупость влечет за собой другую. Но я боюсь, что моя глупость может быть чревата последствиями.
Милочка внезапно останавливается. Ей неудержимо хочется смеяться. Она закрывает рот рукой, смеясь беззвучно, заражаясь все больше своим смехом, едва держась на ногах от усилий заглушить его.
— Что с вами, Милочка?
Смех колет грудь, спирает дыхание, прорывается сквозь пальцы, скачет в тишине и густом мраке бульвара резвым фоксом.
— Алексей Васильевич!.. Алексей Васильевич!.. Неужели… вы… Серьезно?.. Нет!.. Нет!.. Ох!.. Вы шутите, наверно?
У нее не хватает слов, она машет руками, смех мешает ей говорить.
— Ну может ли взрослый человек быть таким трусом?
Тогда Алексей Васильевич останавливается в свой черед и тоже начинает смеяться. За Милочкиным ошалевшим фоксом выпускает субтильного пинчера.
— Серьезно? — переспрашивает он.— Вы говорите серьезно? Как это вам пришло в голову? Ха-ха. Вот тебе раз. Можно ли говорить серьезно о таких пустяках? Вот это называется рассмешить. Ха-ха! Честное слово — это забавно!
Он берет Милочку под руку, прижимает ее локоть к груди, выпрямляется, ноги легче скрипят по гравию бульвара. Можно даже бросить палочку — она совсем не нужна сейчас. Ему всего только тридцать два года. Тридцать два — не больше. Нет, нет, положительно не знаешь, когда шутит, когда говорит серьезно этот человек.
— Милочка, вы забавное существо. Милочка, вы были когда-нибудь влюблены? Да? Тем лучше. Значит, вас нечему учить. А теперь идем в цирк — спать мы успеем завтра.
Глава четвертая
Униформы в линялых гусарках {30}, с обмотками на ногах иноходью выбегают на арену, сгибаясь под тяжестью партерного ковра, раскатывают его и закрепляют концы. Под брезентовым навесом клубится пар от испарений сотен человеческих тел, плечо к плечу сгрудившихся в одну пеструю, колеблющуюся массу, плотным кольцом замкнувшую круглую площадку, убитую влажными опилками.
Конский пот, навоз, махорка — сливаются в одном густом запахе, спирающем дыхание. К нему присоединяется медный гул оркестра, нестройный гам человеческих голосов, смеха и лая.
Сейчас начнется борьба — третья, последняя часть программы. Международный чемпионат борцов-победителей. Захватывающее дух зрелище.
В проходе давка. Каждый хочет увидеть лучше. Буденовки отважно прочищают дорогу к первым рядам. За ними поспешают дамы. Лица у них красные от напряжения, волосы прилипли ко лбу, на губах шелуха от семечек.
— Товарищи!.. Осторожно… Товарищи!..
Все грудью напирают друг на друга, дышат в затылок тяжело и жарко, отдавливают ноги, волнообразно покачиваясь вперед, назад, в стороны, обливаясь потом.
— Товарищи-и!
Мальчишки-папиросники сидят на брусьях, поддерживающих шапито. Им лучше всех. Они сидят, болтают ногами, перекликаются, изредка плюют вниз на публику.
На арену выходит человек в черном жакете, голубом галстуке, белых парусиновых полуботинках. У него тщательный пробор, большой нос, сочные губы, открывающие ровные белые зубы. Он изгибается, отводит левую ногу несколько назад, правой рукой делает широкий жест, низко склоняет голову. Общий поклон, дань уважения к почтеннейшей публике. Оркестр обрывает на полуфразе, голоса затихают.
— Сейчас состоится международный чемпионат французской борьбы лучших борцов-победителей!
2
Ланская кладет локти на барьер ложи, похожей на стойло, и вытягивает шею. Она кивает то тому, то другому знакомому, смеется, говорит со своими соседями. Халил-бек сидит сзади, смотрит, как у нее на виске бьется синяя жилка. Мысленно он зарисовывает ее голову то в том, то в ином ракурсе. И каждый раз это другой человек. Он видит ее у себя в ауле с кувшином на плече или в Париже, сидящей за столиком в кафе, с соломинкой в зубах. Разве можно сказать, что это одна и та же женщина?.. В жизни, как и на сцене, она всегда разная.