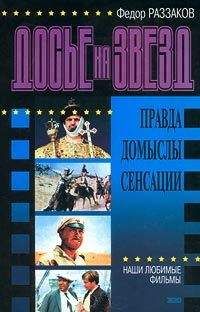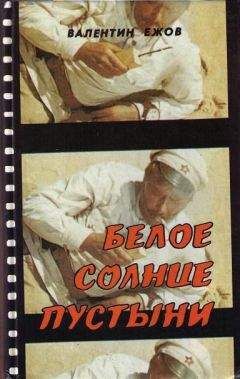Степан Злобин - Остров Буян
— Ну, ну, ты потише! Что бякаешь, дурь голова, какая у господа бога «шкура»! — придирчиво заключил подьячий. — За эти слова в монастырь упекут!
— Филиппе! — окриком прервал споры келарь.
Подьячий оглянулся, увидел монаха и суетливо кинулся к нему, испрашивая благословение.
Истома сразу узнал сборщика податей: это был старый знакомец, шведский перебежчик, которого когда-то он провожал по болотам, а потом догнал с кошелем червонцев. Знакомец постарел, бороденка его слегка поседела, но все те же были бегающие красные глаза без ресниц и бровей, те же тонкие губы под жиденькими усами, голос, движения.
Подьячий встретился взглядом с Истомой и в смятении быстро отвел глаза.
У Истомы от неожиданности загорелось жаром лицо: он страшился всего, что связано с зарубежьем.
— Слышь, Филипп, — обратился меж тем к подьячему келарь, — мне в съезжую избу идти недосуг. Сам знаешь, время осеннее, хлопот по горло, а надо. Сходи-ка ты в съезжую, напиши закладную кабалу обители в звонари на сего человека, — указал он подьячему на Истому, который стоял потупясь.
— В звонари? — переспросил подьячий, и в голосе его прозвучало что-то такое, что заставило Истому поднять опущенные глаза.
Подьячий перевел свой взор с Истомы на келаря.
— В звонари, говоришь? — переспросил он. — Корыстливы вы, святые отцы, аж законов царских блюсти не хотите! Стало, так: отец келарь с белыми ручками, а Филипку к ответу? Али я тебя в чем когда обманул? За что мне?
— Чего ты плетешь нелепое, сыне? — не понял подьячего келарь.
— Плету нелепо, да мыслю лепо. Не пойду я с ним в съезжую избу. Ты, отче, меня не обманешь! Я вижу, каких земель человек, и указы ведаю!
— Гдовленин[49] пишется сей человек, — произнес монах уже с беспокойством. — Гдовленин, что ли? — спросил он Истому.
— Гдовленин, — хрипло ответил Истома, чувствуя, как пересохло горло.
— Брешешь ты! — в лицо ему крикнул подьячий. — Хлопот будет с сим человеком, — сказал он келарю. — Я их по обличью знаю. Глянь, шляпа чужих земель, опояска не наша…
Истома прорвался.
— Да что тебе, что? Тесно, что ль, тебе от меня на царской земле? — с обидой и болью воскрикнул он.
— Мне на Руси не тесно, да обитель хочу упредить, что хлопот с тобой не избудешь. И грех тебе отца келаря подводить под ответ: человек он добрый, — слащаво сказал подьячий.
— Сказывай, человече, истину: отколе ты родом? — в тревоге спросил Истому монах.
— Под свейскими немцами ныне наша земля, — приглушенно признался Истома.
Теперь уже монастырская кабала показалась ему желанным приютом покоя и мира, словно он всю жизнь и стремился лишь к кабале.
— Ах, грех-то, ах, грех! — воскликнул монах. — Где же стыд у тебя! Ведь я тебя ныне повинен явить воеводе.
— Брось, отче! Что тебе за нужда являть! И сам явится. Кто возьмет его на беду! Я подьячий — и то страшусь с ними путаться.
— Отец келарь, не слушай ты ябеду! Я как проклятый стану трудиться, — взмолился Истома.
— Отойди! — отмахнулся монах и вскочил в повозку. — Я тебя ведать не ведал… Уйди!..
— Отче, послушан…
Но монах ткнул возницу в спину. Сытые монастырские кони дружно рванули с места.
Сжав кулаки в отчаянье, Истома взглянул на подьячего. Красноглазый смеялся, показывая розовые десны из-под своих тонких губ.
— Что, что щеришься, ирод! — воскликнул в гневе Истома. — Бедного убить — не добра нажить! Что ты забаву себе из сиротской недоли строишь? Али сам не терпел николи напасти?
Но, слушая запальчивые слова Истомы и глядя на его разгоревшийся гнев, подьячий лишь пуще хихикал.
— Ох, дурень ты, дурень! — сквозь смех сказал он наконец. — Да что тебе за беда, что монах испугался! Куды ты полез в кабалу? Добро бы еще к одному господину: тот помрет — и ты вольный. А то на, в монастырщину вперся — навек свою волю сгубить!
Истома остолбенел от неожиданного поворота.
— Куды же мне деваться теперь? — недоумевающе спросил он.
— Я тебя во звонари ж поряжу без кабальной. Церковным старостой я пятый год. Звонница наша — краса, а звонщика доброго нету. И воли не потеряешь… То-то! — Подьячий весело усмехнулся.
— Послал господь за терпенье мое! — облегченно вздохнул Истома.
— Бог добро помнит и нам велит! — поучающе произнес подьячий.
Глава третья
Подручный и советчик псковского купца Федора Емельянова, площадный подьячий Филипп Шемшаков жил в Завеличье невдалеке от Немецкого двора. Это помогало ему теснее быть связанным с заезжими иноземными купцами, перехватывая торговые сделки с Ливонией, Данией, Швецией и Литвой. Среди ремесленной мелкоты он был почтен, как богач, у которого было в долгу пол-Завеличья. Как всякого ростовщика, его ненавидели, презирали и все же боялись. Он был уличанским старостой своей улицы, церковным старостой своего прихода и человеком, которому, несмотря на его неказистый наряд, завелицкая мелкота кланялась низким поклоном. Филипп Шемшаков рядил по веснам народ к сплаву леса и барж в бурлаки, к зиме — в лесорубы, в обозные ездовые, сидя целыми днями в кабаке, где искала пристанища гулящая ярыжная голытьба. К Филипке обращались и за пятью рублями, закладывая гончарни и кузни, у него просили и пять алтын, отдавая в заклад кафтан или шапку. Он писал челобитья, сбирая за это грош по грошу, давал ябедные советы и за совет без стеснения принимал десяток яиц, гуся или свинку. Заморские гости знали его и хотя с брезгливостью, но здоровались с ним, пожимая его потную, скользкую руку, уважая в нем дальновидного и хитроумного негоцианта[50]. Ему привозили в подарок лимоны, заморские вина и сукна. Он отдаривался медом да мочеными яблоками. Он, как староста, заботился об украшении своего храма, о покупке и литье колоколов, которых на звоннице Пароменской церкви скопил уж с десяток.
Зарубежный беглый звонарь Истома, с юности прославленный мастер своей округи, попался ему кстати, и он написал на него порядную запись[51] на пять лет службы.
На другой день после встречи с Филиппом Истома увел семью с посада во Псков, где поселились они также в церковной сторожке.
Прямо перед церковью вел через реку Великую плавучий мост, по которому проходила дорога в Россию из-за литовскою рубежа.
Город Псков лежал величавый, многоголовый, сияющий золотом куполов и крестов на каменных церквах и колокольнях, высящихся за грозными зубчатыми стенами, не раз отразившими нашествие литвы и немцев различных стран[52], — город, которым восторгались приходившие воевать его чужеземцы.
Псковские колокола тысячеголосо пели из-за реки, и Истоме нравилось откликаться им полногласным малиновым звоном своей звонницы.
Но жизнь звонаря была не богата. Днем должен был он заботиться о чистоте храма, чистить, скрести и мыть, ночью — оберегать от воров, а в подтверждение того, что не спит, вызванивать каждый час, когда ударял в Кроме колокол Троицкого собора.
Отнятый в Новгороде скарб, скопленный от деда и отца к сыну и внуку или взятый в приданое еще за бабкой и матерью, было нелегко возместить. Не было ни плошки, ни ложки — все надо было купить на торгу, и семье жилось тяжело. Кроме того, обоих — Истому и Авдотью — давила и мучила мысль о потерянном сыне…
Авдотья грустила и тосковала попросту, по-матерински, скучая о погибшем детеныше. Истома — не так. Он бы свыкся с пропажей сына. Жизнь впереди, родятся другие дети, но мысль о несправедливости жизни, об обиде, которую он перенес, уходя из-под иноверческой власти, отравила его сознание. Ему казалось, что на Руси должны были каждого перебежчика встретить теплом и лаской, обогреть, приютить и устроить, как брата, и то, что суровый царский указ бросил его в тюрьму, что пока он сидел в тюрьме, сгинул сын, пропало его добро, что пока бродяжили, жена потеряла здоровье, — омрачало и озадачивало Истому.
«За что? За что?..» — твердил он себе.
Никакая удача и радость неспособны были развеять сумрачную угрюмость его взгляда, заставить его улыбнуться.
Успокоение сходило ему в душу только тогда, когда он взбирался на звонницу, словно бы отрешаясь от всех забот. Со звонницы виднелась гладкая ширь Великой, и величавое множество городских куполов, и глубокая чаша неба, и синяя кромка лесов, и водная гладь просторов Чудского озера.
Истоме казалось, что колокольный звон несет его, будто на крыльях, и он парит, точно птица, над этим чудесным простором. Он звал свои колокола по именам: Мать Буря звал он самый большой и тяжелый, Отцом Перегудом — второй, Лебедушкой — третий, братьями-сватьями звались у него три средних колокола, а мелкие — ребятишками: Ванька, Санька и Ленька.
В праздничный день Истома выделывал на них замысловатые коленца, словно на гуслях, и сам, заслушавшись звона, не мог оторваться от чудной игры. А когда умолкали колокола, он долго еще стоял на звоннице — слушал их медленно затихающий гул и был убежден, что когда уже никто их не слышит, они «про себя» допевают последние звуки.