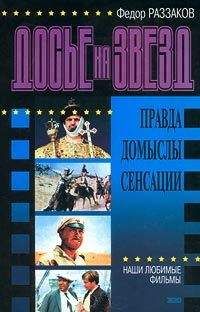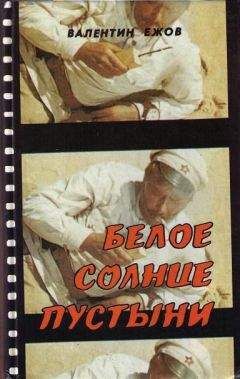Степан Злобин - Остров Буян
— Ладно, — согласился Ордин-Нащекин, — попомню Филипку. Ныне у воеводы буду, попомню.
— А все же умишко мой слаб. Не пойму того — что за корысть русских отбежчиков в Свейскую землю назад посылать, — сказал Федор.
— Ослабла Русь после Смуты, — пояснил дворянин. — Прежде было, свейский король к государю нашему на Москву и писать не смел по малости своей. Свейскими посольскими делами Новгородская приказная изба ведала да воевода новгородский, а ныне, вишь… Читал я притчу такую: занедужил царь зверей, лев, и осля его норовит копытом пнать…
— Неужто ж так немочна наша земля, что осляти и то поддаемся?! — воскликнул Федор.
— И в прошлые времена бывало, что усобицы землю томили. Татаре тогда одолели нас, ан русский дуб не сломить — распрямился. Хоть свилеват[43], да кряжист! Так и ныне: нет силы такой, чтобы русскую силу навек одолела. Их царство недолго. Окрепнет Русь, и быть тем землям опять под православной державой. К чему же их пустошить! Пусть русские люди, которые там живут, до времени потерпят. Час придет, и ты в той земле в городах свои лавки поставишь, пристани корабельные срубишь, свои корабли мореходные на воду спустишь. В заморские земли поплывешь с товаром. Российской христовой державы стяги подымешь над морем. Себе — богатство, отечеству — слава! — заключил дворянин.
Он увидал в глазах Емельянова удивленье и недоверие.
— Ты чаешь, одни бояре да воеводы сила державы? — спросил дворянин. — И купец тоже сила, Федор, да еще и какая сила! Купцы царям славу стяжают и веры христовой силу множат… Иван Васильевич Грозный Ливонские земли к тому воевал[44], чтобы за морем торг умножить. Всей Европы державы и церковь латинская с папой римским в трепет пришли… Ан Смута Россию назад погнала от моря… Ну, Федор, ехать так ехать мне к воеводе! Я чаю, он от пирогов отдышался, с постели встал, квас пьет. И я поеду — сказывают, квас мятный сердца умягчает… Да жеребца того, нового, заодно испытаю. Конь добрый и в радость мне будет.
— И езди на нем в утеху! — ответил Федор.
— А ты, Федор Иванович, захаживай когда в другой раз. В сад зайдешь яблок откушать. Мы с тобой стары дружки. Когда свайку вспомянем за чарой, когда — потасовку.
Дворянин натянул кафтан и завязывал опояску.
— Спасибо тебе, что не брезгуешь простым мужиком. Много чести! — сказал Емельянов. — А все же изловлю тебя на слове да прилезу… Нет своего умишка — твоим поживлюсь. Складно ты молвил ноне про мореходны-то корабли…
— На сердце запало? — с усмешкой спросил дворянин.
— Не говори — запало! Речь твоя торговому человеку лестна, и я прельстился. Спасибо на добром слове! — заключил Емельянов.
Он не успел отъехать и двух перекрестков, как дворянин обогнал его на своем мышастом. Он обдал Федора пылью и что-то крикнул, но Федор не разобрал слов…
Вечером дворянин прислал к Емельянову сказать, «чтобы тот человек, знакомый Федору, жил на своем дворе без печали».
Дня через три жена Емельянова отвезла воеводше нить бурмитского жемчуга[45] да голубой опашень[46], а Федор послал воеводе бочонок «армянского»…
4Конец лета стоял гнилой. Лили дожди.
Истома с семьей пробирался ко Пскову проселочными безлюдными тропами, бродя от деревни к деревне, от окна к окну, прося Христа ради.
Голодные крестьяне подавали не щедро: тощий хлеб на полях, залитых дождями, сулил голодную зиму. Часто семья перебежчиков останавливалась на ночь в открытом поле, в лесу или в лугах — под стогами…
Пробродив так все лето по деревням, к сентябрю они добрались до Пскова. Истома хотел войти в город, но Авдотья как только увидела городские стены, так оробела: ей припомнились новгородские муки, и она отговорила мужа. Им нигде не удалось настигнуть скоморошью ватагу. Народ говорил, что скоморохи давно отошли к Опочке, и семья брела дальше по их следам, по деревням, побираясь милостыней под крестьянскими окнами…
Кто-то сулил после дождливого лета ясную, теплую осень.
Пророчество не сбылось: после дождей наступили ранние холода.
Ночуя в глухой деревушке, Авдотья увидела сон, что все несчастья свалились на них в наказанье от бога за то, что они не окрестили сына. Истома боялся, что поп их выдаст, но Авдотья все же решилась исповедоваться и тем снять с души грех.
Они пришли просить Христа ради на паперти монастыря. Авдотья попросила посадского попа ее исповедать.
Попу она рассказала о том, как они перешли рубеж, как мучились по пути, как в лесу родила она сына и как их с первого дня на Руси заставил скрываться царский указ.
Поп простил ей грехи, согласился крестить сына и сам вызвался поговорить с игумном, чтобы им не скитаться больше, а поселиться в монастырском посаде.
Он сказал, что, жалеючи православных христиан, монастырь готов лучше принять царский гнев и опалу, чем братьев своих во христе выдавать обратно немцам.
За пристанище на посаде потребовал поп, чтобы Истома подписал кабальную запись на имя монастыря… Расширенными, полными страха глазами глядела Авдотья на внезапно почерневшее лицо мужа. Она стояла у порога с младшим на руках. Первушка топтался возле, держась за ее подол… За окном хлестал страшный осенний ливень…
Поп ласково взял Истому за руку.
— Не кручинься, брат. Кто тя неволит! Насильством наш монастырь не берет в заклад человеков… Ступай куды хошь… — сказал поп и своей рукой распахнул дверь на двор.
В один миг натекла за порог вода. Ветер с ливнем ворвался в сени. Испуганный бурей, Первушка прижался к матери и заплакал.
Истома взглянул на Авдотью. С окаменелым лицом, неподвижно ждала она только его слова, потупя взор в землю. Истома понял: встреться они глазами — она не сдержит стенаний и крика. Куда идти? Куда еще дальше тащить детей?!
Он сам не узнал своего голоса, когда медленно вымолвил:
— Своя конура и собаку манит… хоть на чепь ее сажают… — Истома глотнул воздуха, которого не хватало ему. Спазма сжала ему горло, и через силу он тихо закончил: — Сади и меня на холопью чепь!..
И он услыхал облегченный и радостный вздох Авдотьи…
В натопленной тесной церковной сторожче было тепло. Ребята спали возле Авдотьи. Глядя на огонь лучины на очаге, Истома сам не заметил, как по обветренной впалой щеке его поползла слеза. Но Авдотья ревнивым взглядом подкараулила горькую каплю, воровато скользнувшую в широкую бороду мужа.
— Нищему воля суму тянет. Не горюй: поживем да и выбьемся, — сказала она.
И до поздней ночи шептались они о том, как скопят по денежке с двадцать рублей, чтобы выкупиться из кабалы… Начав разговор, оба они порознь не верили в то, что можно скопить такое богатство: Авдотья говорила об этом лишь в утешенье Истоме, Истома — любя и жалея жену, в утеху ей. Но когда прокричали вторые петухи — оба поддались обманной выдумке. И оттого первая ночь в их новом приюте была спокойна и легка всей семье…
5Посадский поп окрестил Истоминого сына. Памятуя желание пропавшего брата Феди, его назвали Иванкой.
Монастырский келарь[47] с утра приказал запрячь лошадей и вместе с Истомой поехал во Псков, чтобы составить как следует по порядку кабальную запись.
Истома больше не тосковал уже от сознания, что теряет волю. Он видел, что для него и семьи иного выхода нет, и он равнодушно, без любопытства поглядывал по сторонам, когда они въехали в город.
Сытая пара резвых монастырских коней везла их по улицам Пскова и торговым площадям, и у келаря всюду были свои монастырские хлопоты и дела: в шорной лавке он привычными пальцами помял хомуты и спросил о цене; у хлебного лабаза черпнул из куля горсть пшеницы, прикинул зерно на ладони, потер в щепотке и даже разгрыз одно зернышко. В железной лавке келарь спросил гвоздей, купил и навалил в повозку пар двадцать подков. Он поглядывал на город по-хозяйски, уверенно и то и дело крестился на встречные часовни и церкви.
На рыночной площади, где торговали воском и медом, келарь опять соскочил с повозки; переходя от одного продавца к другому, он ощупывал вощину, принюхивался к ней и приценялся.
В вощаном ряду раздавались громкие крики: площадной подьячий, назначенный к сбору торгового мыта[48], требовал платы с торговцев. Те спорили, жалобно божась, просили «хоть малость скостить налогу со скудных доходишков».
— Со пчелок, божиих работниц, чай, пошлину не скащивали — собрали сполна, а сами не дюже охочи платить! — упрекал продавцов сборщик. — В Священном писании про пошлины царские писано что? Слыхали? «Кесарево — кесарю, а божие — богу». Каждому, мол, свое…
— В церковь ходим, слыхали! — огрызался продавец. — Мы на том и живем: с нас и кесарю, с нас и богу, а ты, крыса ябедна, и с кесаря да и с бога шкуру сдерешь для своей корысти.