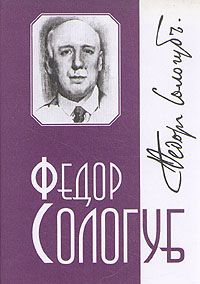Федор Сологуб - Том 3. Слаще яда
Шаня села на диван. Вытерла слезы. Потянулась, точно просыпаясь. Заговорила тихо:
– Ты будешь счастлив. У тебя будет семья, дети, видное общественное положение, большие деньги, почет.
Евгений самодовольно улыбнулся. Сказал:
– Ну, ну, моя милая Шанечка, я тебя никогда не забуду.
Шаня встала, вся охваченная бешенством. Глядя прямо в глаза Евгения, она сказала тихо и злобно:
– За убийство такого негодяя, как ты, знакомые с уважением пожмут мне руку.
Легкое настроение и радостный хмель мигом соскочили с Евгения. Он спустил ноги на пол и с трусливою злостью смотрел на Шаню. Уже ему вдруг нетерпеливо захотелось, чтобы это свидание поскорее окончилось. Как-то уныло смотрели на него стены этой комнаты, и ему захотелось на простор. Он почувствовал бы дикую радость, если б увидел, что Шаня внезапно умерла. И в душе его заскулила жалость к самому себе: «Я – и должен страдать из-за психопатки!»
Шаня страшно побледнела. Губы ее задрожали. Глаза ее загорелись диким блеском, – таким диким, что Евгению стало жутко и страшно. Но он попытался сохранить достоинство и делал вид, что ему ничуть не страшно.
– Ну, нельзя ли потише, – сказал он строго.
Шаня молчала. Дрожащими руками она хваталась за платье и старалась нащупать карман. Евгений струсил. Побледнел, залепетал:
– Ну, зачем так трагически принимать!
Сгибаясь, он пытался прокрасться к выходу. Но Шаня стала перед ним и сказала:
– Если нельзя нам жить вместе, умрем вместе.
Она вынула револьвер. Евгений нелепо и трусливо замахал руками. Закричал визгливо:
– Ну что ты! Уж я… ведь это еще не решено… я лучше женюсь на тебе.
Шаня ярко вспыхнула. Вот кого она любила! Даже умереть не умеет! Даже бороться не смеет, не бросается на нее, чтобы вырвать оружие из ее рук!
– О, подлый! – крикнула она. Подняла револьвер. Евгений закричал:
– Караул!
Метнулся к дверям, но Шаня раньше его была у двери, и дуло револьвера глянуло в его глаза.
Евгений присел на корточки, побледнел, задрожал, завизжал тонко и пронзительно. Нижняя челюсть его отвисла. Весь он ослаб, осел мешком…
Шаня вздрогнула. Выронила револьвер.
– О, какой гадкий! – с отвращением сказала она.
Евгений метнулся к револьверу, распластавшись по полу, и сгреб его обеими руками. Но Шаня толкнула Евгения кончиком ботинки, нагнулась, вырвала из его вялых от ужаса рук револьвер и поспешно вышла.
– Барину дурно, – сказала она лакею.
На улицу выбежала, как на вольный воздух из склепа.
Солнечно-ясный герой, превратившийся в гадину, остался там, позади. И только отвращение, истома смертная, отвращение!
Шаня оперлась на решетку канала, бледная, и смеялась, глядя на его зеленоватые воды. Голова ее кружилась, ей было томно и тошно, и казалось ей, что она умирает от нестерпимо острого отвращения. Вдруг она почувствовала странную слабость, все в глазах ее позеленело и потемнело, она медленно опустилась на плиты тротуара и тихо упала на жесткие камни, головою на согнутую в локте руку.
Конец
Книга превращений*
Задор*
Была война с турками, и было брожение в умах, даже подростки много говорили и волновались. Товарищи Вани Багрецова, гимназисты четвертого класса, на переменах больше толковали о политике, чем о своих школьных интересных делах и делишках. Ваня кипел и горячился и в гимназии, заодно с товарищами, и дома в бесконечных ожесточенных спорах с бабушкой.
Однажды Ваня вернулся из гимназии под впечатлением новых слухов, весь насквозь пропитанный негодованием. Он вознамерился насказать бабушке немало горьких истин. О, конечно, он никогда не трогал бы ее, – старая, где ей понять! – но в последнее время бабушка слишком злобно нападала на молодежь и даже позволяла себе лживые утверждения, которых Ваня не мог оставлять без ответа.
Не нравились и бабушке и матери Ванины новые взгляды и его знакомства. Правда, товарищи заходили к нему редко; но тем было хуже. У Вани, притом, уже давно была привычка по вечерам гулять, и уходил он всегда один; прежде на это не обращали внимания, а теперь его, совершенно, впрочем, невинные прогулки по городским улицам начинали казаться подозрительными и опасными. Их еще пока не запрещали, – не было очевидного повода, – но и не поощряли: косились и ворчали каждый раз.
В воинственном настроении вошел Ваня в столовую, стараясь придать себе независимый вид, но внутренне волнуясь в ожидании предстоящей схватки. Его бойкие серые глаза, немного близорукие, смотрели с задором и сердито.
Бабушка, высокая и худощавая старуха с быстрыми движениями и очень прямым станом, была уже «готова», как Ваня тотчас же подумал, взглянув на нее. Она энергично шагала по комнатам и не обращала ни малейшего внимания на заигрывания серого, сытого кота Коташки, который, таясь за ножкой стула, ждал, когда бабушка пройдет, и бросался на подол ее платья. Бабушкины темно-карие глаза метали молнии, и черные крылья ее кружевной наколки трепетали и развевались. Ваня сообразил, что это сердятся, зачем он опоздал: случилась необходимость зайти из гимназии кое-куда по самонужнейшему делу, и это заняло лишние полчаса.
Бабушка так и набросилась на вошедшего Ваню.
– А, передовой человек, милости просим, здравствуйте! – восклицала она, иронически раскланиваясь.
Ваня счел долгом обидеться на неуважительное обращение со словами, выражающими почтенное понятие.
– Лучше быть передовым человеком, чем задовым, – немедленно же и с достоинством отрезал он.
– Прекрасно! – с сердитым смехом воскликнула бабушка. – Очень прилично! Что же, это я, по-вашему, задовой человек? Как это мило! Продолжайте.
– Что ж мне продолжать! – запальчиво отвечал Ваня. – Если вы считаете, что постыдно быть передовым, значит, вы сами хотите быть задовым человеком.
– Хорошо, хорошо, – говорила бабушка, принимаясь расхаживать по комнате. – На дерзости вы все мастера, а еще материно молоко на губах не обсохло. Недоучки желтогубые, туда же суются учить всех!
Ваня жестоко покраснел; он не выносил намеков на свои годы.
– Возраст здесь ни при чем, – заявил он решительным голосом и с вызывающим видом посмотрел на бабушку.
– Нет, при чем, при чем! – закричала бабушка, приходя в сильное раздражение и опять наступая на Ваню. – Вы сперва научитесь хлеб зарабатывать, а потом уже пофыркивайте.
– Г-м, да, вот что! – пробормотал Ваня, делая чрезвычайно саркастическое лицо:
– В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.
Ваня имел пристрастие к литературным цитатам, заимствованное им у бабушки; но старуха эти цитаты всегда толковала по-своему. Она сердито говорила, расхаживая из угла в угол:
– Да, мы, старики, не должны своего суждения иметь; так, по-вашему, должно быть, выходит. Только вы, господа недоучки, можете обо всех судить и рядить с плеча, – как же, министры какие, подумаешь!
– Да я совсем не то говорю, вы меня не так поняли, – пробовал оправдаться Ваня.
Но бабушка волновалась и кипела.
– Где уж мне, старой дуре, понимать таких умников! У вас ведь все по-своему, по-новому: что мое, то мое, а что твое, то тоже мое, – так ведь у вас говорится. Прекрасные правила!
– Это вот вы все по-своему перевертываете, – с досадой возражал Ваня. – Никто таких глупостей не говорил, и социалисты вовсе не того желают.
– Социалисты! – презрительно протянула бабушка и посмотрела на Ваню прищуренными глазами – Перевешать бы их всех, этих социалистов, да и друзей их заодно, от Петербурга до Москвы на всех деревьях по десяти на каждое.
– Бодливой корове бог рог не дает! – тихо молвил Ваня дрожащим от негодования голосом.
– Нет, уж лучше ты, батюшка, – опять накинулась бабушка на Ваню, – завиральные идеи брось, а то с ними далеко уйдешь. Незнайка-то себе лежит на печи, а знайка по Владимирке бежит, вот оно что.
Ваня усмехнулся.
«Ведь как все пословицы и примеры коверкает на свой лад», – подумал он и не мог удержаться, чтобы не заметить:
– Завиральные идеи – совсем не в таком смысле у Грибоедова сказано.
– Ну, уж я стара стала учиться по-вашему, – с раздражением говорила бабушка, вставляя папиросу в деревянный мундштук и закуривая ее. – Мы попросту учились. В наше время сходок не было, и уши выше лба не росли. В наше время мальчишки писем не получали бог весть от кого, да на сходки не бегали. Вот заберут на сходке-то вас всех, недоучек желтогубых, да и засадят. То-то будет радость родителям! Ну, да ведь нынче родители – что!
Бабушка скрыла огорченное лицо в густых клубах табачного дыма.