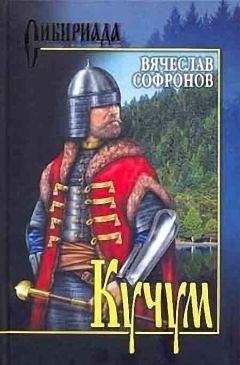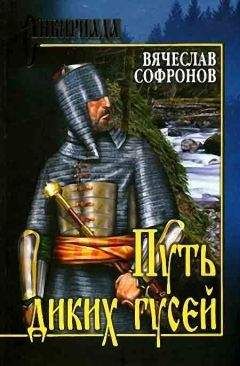Максим Горький - Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936
— Чаю, сахару тоже нет, — спокойно, сочным голосом дополнили из-под полатей.
— Это хозяйка моя голос подаёт, — объяснил Егорша. — А картошки не дашь, Палага?
— Картошек из-за дождя не успели нарыть.
— Так. Ну, — хлебца, соли дай. Хлеб да вода — богатырская еда.
— Тятя, — позвал с полатей тихий голосок.
— Эх вы, жители, — пренебрежительно сказал солдат.
— Не нравимся? — спросила хозяйка, выступая на свет и застёгивая кофту на груди. — Тогда — может, к другим пойдёте?
Вопросы её прозвучали не задорно, не обиженно, однако с явным чувством своего хозяйского достоинства. Я обозлился на солдата, а он, должно быть, испугался, что выгонят нас в дождь и в ночь. Он был скупой человек, но тут, смягчив свой деревянный голос, примирительно сказал:
— Ты, хозяйка, не беспокойся, еда у нас есть.
Нахмурив тёмные брови, женщина задумчиво посмотрела на солдата, на меня.
— Ну, вот и поешьте, — разрешила она равнодушно и, пройдя в передний угол, наклонилась там, разбирая тряпьё. Была она небольшая, плотненькая, на круглом, красноватом лице под высоким и выпуклым лбом серьёзно светились овечьи глаза, широко расплывшиеся нос и толстые губы делали её лицо некрасивым, но было в нём — в глазах её — что-то приятное, заставившее подумать: «Не глупая». И в лице и в её фигуре заметно было нечто общее с мужем; Егорша тоже светлоглазый, курносый, скуластый, беззаботно курчавая бородка не придавала его лицу особенного мужества. Стоя в углу, около печи, он говорил:
— Куда же ты, Яшук, сикаешь? Ты, брат, мимо лохани, не слышишь?
Белоголовый, тощенький мальчик слабо сказал что-то, но слов его не слышно было за словами отца.
— Вот, прохожие, у парня — глаза мокнут, вроде бы гниют. Не знаете средства против глаз? Мокнут и мокнут, — что ты будешь делать!
— В больницу вези, — посоветовал солдат.
— Возить нам — не на чем. Мы, брат, сами возим желающих, — говорил Егорша, помогая сыну влезть на полати. — В больницу я его водил даже три раза. Капали ему капли в глаза, промыванье дали — не помогло! Нет, не помогло, — повторил он и впервые тяжко вздохнул, наблюдая, как солдат вынимает из котомки половину буханки солдатского хлеба, куски пирога. — Нет, уж я так думаю: положено ему ослепнуть. Вот и девчоночка тоже — горячка у неё четвёртые сутки. Простудилась, хрипит… как она там, Палага?
Но, не дожидаясь ответа жены, он с радостным удивлением вскричал:
— Это — что же? Свинина?
— Ветчина, — поправил солдат.
— Богато живёте! Палага — гляди: ветчина.
Хозяйка, улыбаясь, подошла к столу:
— Кусище какой! Ба-атюшки…
— Каких же денег это стоит?
Солдат решил быть весёлым.
— Не куплено, крадено, — сказал он. Егорша не поверил.
— Будто — слямзил? Врё-ешь!
— Верное слово.
Толкнув жену в бок, Егорша захохотал, закачался, и обнаружилось, что сзади него стоит старуха, вытянув шею вперёд, выкатив глаза, челюсть у неё отвисла, обнажив тёмную, жадную дыру беззубого рта. Солдат великодушно пригласил хозяев поесть.
— За это — спасибо! — сказал Егорша. — Ты вот что, друг, ты отрежь кусок парнишке, ему польза будет. Мясо, брат, редкая пища…
Схватив кусок ветчины, он побежал к полатям, говоря на бегу:
— Пищу воровать — можно! Я, конешно, не верю, что вы — воры…
— Поверь, — настаивал солдат, а хозяйка спросила меня:
— И ты воруешь?
Раньше чем я успел ей ответить, ответил солдат:
— Он — нет! Он — грамотой испорчен, стесняется.
— Пищу можно воровать! — повторил Егорша, толкнув жену и Старуху, понуждая их сесть к столу. — Пищу и мышь и птица воруют. И даже таракан. Воровство — не баловство, я так понимаю.
— А ты ври больше на себя-то, — сказала жена, хмурясь. Егорша согласился с ней:
— Конешно, на себя врать — пользы нет! Ну, а всё-таки поговорочка звенит: «Хочешь есть, да — нечего, — в клеть лезь, хлеб у кого…»
— Нету поговорки такой, — сердито сказала старуха.
— А ты все знаешь?
— А и знаю!
Должно быть, желая прервать возможную ссору, солдат сказал:
— Ловко у тебя язык привешен!
— У меня — душа звонкая, оттого и язык бойкий, — ответил Егорша.
— Нуте-ка, кушайте, — предложил солдат.
И все замолчали. Солдат любил есть и ел много, но на этот раз кусок не шёл в горло ему, так же как и мне. Жутко было видеть, как жадно ест Егорша, и особенно страшно совала куски мяса старуха в чёрный беззубый рот: поднося кусок к лицу, она одновременно всем телом наклонялась к нему, точно опасаясь, что кусок вырвут из пальцев её. Она всхлипывала, всхрапывала, и её тусклые глаза ревниво, из-под седых бровей, следили за быстрой рукой Егорши. Было видно, как ёрзает её кадык, образуя из кожи на шее нелепые, невиданные морщины. У меня её жадность возбуждала тошноту, и я заметил, что молодуха раза два уже толкала её локтем в бок. Сама она, Палага, ела не торопясь, аккуратно, пережёвывала пищу долго, и казалось, что это молчаливое насыщение тяготит её; от этого, а не от сытости краснеют её уши, щёки. Видимо, я догадался правильно, и Палага что-то заметила, сочный голос её вдруг покрыл громкое чавканье мужа и животный храп старухи.
— Он у меня сказочник, выдумщик. Иной раз найдёт на него — всю ночь, до утра балагурит. И даже бывает страшно слушать. Вдруг придумает, что разродятся тараканы.
— Угу, — сказал Егорша, кивнув головой.
— Разродятся так, что ни людям, ни кому другому живому места на земле нет уж, одни тараканы кишат, а боле — ничего!
Егорша перестал есть и совершенно уверенно сказал:
— А то — мыши! Против таракана — средств нету, а мышь — силоватей его, она таракана может кушать. Сами знаете: всё держится на силе.
— На глупости больше, — вставил солдат.
Егорша уже успел набить рот ветчиной и не мог ответить, а только помахал рукою в воздухе. Но проглотив жвачку, он немедля и напористо снова заговорил:
— А глупость — не сила? Глупость, брат, тоже сила. Побори-ка её? У нас, в селе, учительша против глупости ратовала, так приехали ночью из города жандармы — хоп её! И — пожалуйте в Сибирь, в безлюдное место…
— Ты расскажи про неё, — предложила жена. — Он про неё так рассказывает, что даже до слёз доводит.
Вытирая рот подолом юбки, старуха сказала неожиданным басом:
— В бога она не верила, отца не уважала, вот ей и — каюк! Да ещё и на том свете…
Егорша, дурашливо крестясь, сказал:
— Господи — помилуй, хвостиком по рылу! — а Палага посоветовала старухе:
— Ну, покамест ты на том свете не побывала, так про него не рассказывай.
— Она, учительша, была необыкновенной храбрости, — говорил Егорша солдату. — А отец у неё — поп, бо-ольшой силы попище! Вот она беседует с ребятами, с девками, а он незаметно подкрался, да за волосья её, да по щекам. Избил, а она встала с земли и говорит: «Понимаете, за что он, поп, отец мой, бил меня? За то, что я вам правду говорила. Не верьте, кричит, попам!» Тут он её — ещё! Да ещё…
— А как надо? — спросила старуха и сама же ответила: — Так и надо.
— Ты, мамонька, иди-ко спать, — сказала дочь, не сердито, но внушительно.
— Успею, — откликнулась старуха, она уже насытилась, её дёргала икота, но она всё ещё вкладывала в рот неверной, как бы пьяной рукой, кусочки пирога, отщипывая их пальцами, формы и цвета кореньев хрена.
— Гляди, вот до чего старики голодные, — сказал мне Егорша. — Им, ядри их чёрт, всё равно, что делается…
— А ты чёрного-то к ночи не поминал бы, паяц с ярмарки…
— Перестань, мать…
— Ему скажи, чтоб перестал, да, ему! — заговорила старуха басом и так глухо, точно в горле её кусок застрял. — Видали вы убогого такого, люди добрые? «Хочу, говорит, честным жить», а живёт со всеми зуб за зуб, никому — ни богатому, ни умному — не покоряется. То ему рёбра мнут, то — в тюрьму сажают. На улицу стыдно выйти из-за него, — рычала старуха всё гуще и озлоблённее; дочь её, сметая крошки со стола, хмурилась, Егорша, вытирая ладони о портки на коленях, посмеивался, подмигивал нам и этим довёл тёщу до того, что она, застучав по столу сухими кулаками, накинулась на него:
— Ежели во святы угодники метишь — не женись, рыжий бес, не мучай бабу зря…
— Ну, где же зря? — возразил Егорша, подмигивая. — Она, гляди, пятерых родила.
— Плюнуть тебе в хайло, — заревела старуха, — дочь взяла её под мышки, легко подняла и понесла к двери, говоря:
— Иди, иди, мамонька! Покушала, ну — отдохни…
Старуха, болтая ногами, держалась за живот и рычала, плевала на пол.
— Хорошо живёшь с женой-то? — спросил солдат.
Егорша ответил с жаром:
— Жена, брат, это… это, я тебе скажу, вся награда жизни моей! Ей-богу! Не будь её — забили бы меня, как гвоздь в стенку. А её даже злодеи мои уважают — умница, работница, песни поёт лучше городской актрисы…