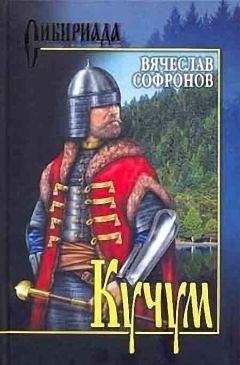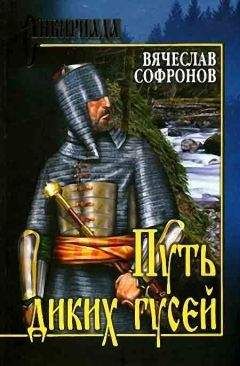Максим Горький - Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936
Я спросил Егоршу, почему он в тюрьме сидел.
— Сажают! — очень правильно ответил он. — Вот последний раз земскому чего-то не так сказал, он меня и запрятал на целые три месяца. У нас тут дворянство кругом, господа — строгие, то есть требуют обращения, а в людях понимают меньше, чем в лошадях али собаках. Я прошлой осенью конюхом был у Лодыгина, а земский зятем ему приходится, ну и служит тестю, как тот пожелает. А до этого пруд чистил у купца Баюнова, громаднейший купец, морда красная сковородой, бороду бреет. Жулик такой, что хоть в цирке показывай. И всё на копейки считает: «За границей, говорит, весь счёт на часы да копейки и всякая работа идёт по шесть копеек в час, что ни делай, хошь нужник, хошь церкву». Он, сукин сын, хлопотал, чтоб меня окружным судом судили.
Я осведомился, за что. Егорша, сморщив лицо, почёсывая шею, усмехнулся:
— Так, пустяковина. Будто бы я его, быка такого, убить хотел, будто — покушение сделал. А я просто лопатой…
— По башке? — спросил солдат, поглядывая на Егоршу очень дружелюбно, с явным удовольствием.
— Нет… по плечу, что ли. Да ведь это так… просто: я замахнулся, а он подвернулся, — скучновато объяснил Егорша.
Вошла Палага, села на скамью возле девочки и оттуда сказала:
— Ты про бабушку Степаниду расскажи.
— Да, вот это случай свежий, — подхватил Егорша, снова оживляясь. — В страдную пору тут бобылка померла на жнивье, надорвалась и — в землю носом! Мужики покойников уважают, а тут, сами знаете, хоронить — не время, да и некому — бобылка. Работала она у Костюхина — есть такой деляга, живоглот. Уговаривают его: на твоей полосе померла — тебе и хоронить. Ну, у него свои резоны: не у меня она силу потеряла, а у всех, кто её нанимал. Затеялся спор. Лежит старуха на меже, раздуло её горой, сутки лежит и другие, вонь пошла от неё, ну и слухи тоже: умерла, а — почему? Неизвестно. Того гляди, полиция вступится, и тут уж — раскошеливайся! Костюхин настоял: хоронить вскладчину и первый внёс рубль шесть гривен — заработок её. Ну, сколотили кое-как четыре с двугривенным, я взялся гроб сделать, — я свои деньги у богатого в кармане держу! — усмехнулся он, подмигнув солдату. Рассказывал он очень живо, в светлых глазах его блестели острые улыбочки, обветренная кожа скуластого лица смешливо морщилась, и беззаботная бородка как будто росла.
— Ну, ладно! Пошли к попу, а он и говорит: «Кто вас знает, отчего она померла? Тут требуется полиция. Но, жалеючи вас, между прочим, отпою за десятку». Туда-сюда — не уступает! А тут ещё с гробом ошибся я — покамест работал, старуху-то ещё боле разнесло. Ну, как же быть? Заплатили попу десяточку, а покойницу на погост повезли так: она — на телеге вдоль, а гроб в ногах у неё поперёк. А в могилу положили сперва её, а гроб поставили сверху, иначе — не выходило! Вот какие похороны бывают…
— Случай-то хоть и свежий, а — невесёлый, — хмуро сказал солдат, а Палага тихонько выговорила:
— Пойдёте дальше — расскажете, как люди живут…
— Н-да, живём — туго. И даже надеяться не на что, и ждать нечего. Живёшь? Ну, и привыкай. Мне вот скоро четыре десятка минет, а работать я начал с восьми лет, и на работу — охочий, не лентяй, нет! Однако сами видите, лишнего — не выработал.
— Зато душа хорошая, — сказала Палага.
— Душа не корова — молока не даёт, — откликнулся муж. — Не-ет, своим горбом лишнего не наживёшь, лошадёнку надобно, хоть — махонькую, хоть на двух ногах, вроде меня. Обязательно, друзья, для добычи лишков требуется скотина да наш брат — бездомный батрачок. Кабы мастерство знать, да в деревенском быту какому мастерству научишься? К тому же и мастеровой живёт в чужих оглоблях.
— Да, стеснительно живём, — сказал солдат, кивая лысоватым черепом.
— Простору — много, а деваться — некуда! Я ли не странствовал? Родился в Вологодской губернии, а — вот куда занесло. И везде — как на ниточке висишь. В одном повезло: жену хорошую случайно нашёл. Как-то, под вечер, иду около Симбирска, рассчитался с заводишка суконного, гляжу: около дороги — телега, у телеги — баба, воет, тут же и другая на пенёк присела. Подошёл: что случилось? Оказывается — переселенцы, в Сибирь поехали, а мужик по дороге запил, пропил всё домашнее барахло, а теперь вот выпряг лошадь и пошёл её пропивать. От своих вторые сутки отстали, догнать не на чем, да и незачем, ну что делать? Вот так и нашёл я жену с тёщей…
Странно и глубоко печально было слушать его: он и о своей неудачной жизни говорил всё так же усмешливо, играючи, не чувствовалось в словах его ни уныния, ни озлобления на судьбу, никакой горечи, звучала только привычно весёленькая и уже навсегда вкрепившаяся безнадёжность; её-то, вначале, я и понял как игру на удальство. Подумалось: «Весело скрипит, а под корень сломлен».
Солдат слушал его, сидя прямо, как деревянный, молча прикрыв сердитые глаза, шевеля пальцами рук, положенных на стол, точно играя на невидимых и неслышных гуслях.
— Вот прикрепились здесь, — продолжал Егорша. — Село этим летом наполовину выгорело, ну кое-какая работёнка есть. А деревня эта опасная, тут, считай, почти в каждой избе носовая болезнь, сифилис действует, гундосят все…
— Ну, уж — все! — поправила его жена. — Что зря порочишь!
— А кого я порочу? Тут, года четыре назад, какое-то войско стояло по случаю бунта, что ли, так солдаты всех баб, девок перепортили.
— Ой, что ты! Есть здоровые…
— Ты доктор? А мне доктор говорил, Пётр Васильев. «Береги, говорит, детей…» Никого я не порочу. И солдат тоже. Солдаты за себя не отвечают, они на присяге, как на коне, куда конь скачет, там люди и плачут.
— Любишь ты поговорки, — угрюмо сказал солдат.
— Одна утеха, — ответил Егорша, — ничего не осталось, как шутки шутить. Нет ни земли, ни лошади — ни хрена! Одна жена, да тёща, да таракан во щи.
Вошла старуха с грудой тряпья в руках и зарычала:
— Будет уж языки чесать! В сенях — текёт, я тут спать лягу. Вы, прохожие, на чердак идите.
Бросив тряпьё на пол, она продолжала:
— Ходют тут, всякие. А — чего ходют? Всё — спрашивают.
— А ты бы не ворчала, мама, — посоветовала дочь.
— Она без этого не живёт, — сказал Егорша. Ползая на коленях, расстилая тряпки по полу, старуха пригрозила:
— Вот они придут в город, скажут: в деревне Синюхиной мужик живёт языкатый, отрезать бы ему язык-от…
Егорша проводил нас в предбанник.
— Уж вы как-нибудь там устроитесь… Сенца бы туда, да скота не имеем, а для себя сена не держим, — не научились сеном-то питаться…
— Неглупый мужик, — пробормотал солдат, устраиваясь около трубы. — Неглуп. А — лишний. Эх, чёрт вас…
Он матерно выругался и замолчал. По соломе крыши неустанно и назойливо барабанил дождь. Тихий его шорох упрямо заставлял вспоминать речи Егорши. Крупная капля метко попала мне в глаз. Минут через пяток внизу, в предбаннике, послышался приглушённый голос Палаги:
— Посидим здесь, пока она уснёт.
— Ух, ядовита старушка, — тяжело вздохнул Егорша. Помолчали. Потом снова заговорила жена тихонько, но внятно.
— Нехорошо как вышло…
— Что?
— Зашли к нам бедные люди, а мы их — объели.
— Ну, ничего! Нас — тоже объедают. Они и украсть не побоятся и милостыню попросить не постыдятся. А нам с тобой — не красть, не просить…
И вдруг скрипнула дверь, раздался густой и как бы торжествующий шёпот старухи:
— Вот ругаете меня, а я, покуда вы ели, куски-то со стола всё в подол, всё в подол…
— Да иди ты — спи! — почти крикнула Палага, а Егорша проворчал:
— Экое наказанье…
— Ду-ураки! Глядите сколько! Когда ты меня, дура, потащила — испугалась я: ох, уроню куски…
Сильно хлопнула дверь, стало тихо. И даже дождь как будто обессилел. Солдат снова крепко выругался.
— Ты что? — спросил я.
— Капает на меня. Изба, мать вашу… Избавили мужика… от всякого смыслу, трещит, как скворец…
Минуту он возился молча, переползая на другое место, потом зарычал, как старуха:
— Слова придумывают: изба — избыток. Сволочи. Лексей — слышишь? Избыток, а? Старуха-то? Куски прятала… слышал? Избыток… Давить надо сукиных детей, мать…
— Ты кого ругаешь?
— Кого надо. Мужик-то — как про нас… Не дурак мужик. И хорошо, что не богат. А — будь богат, тоже сволочью был бы. Избыток, растак вашу… — Ворчал он долго, ещё раза два ползал в пыли чердака, меняя место, на него, должно быть, везде капало. Капало и на меня, но я уж притерпелся. Потом солдат как-то вдруг захрапел, засвистел носом. Через некоторое время, сквозь дремоту, я снова услыхал голос Егорши:
— Ну, не плачь! Что поделаешь? Конешно, лучше бы мать умерла — легче было бы нам…
— Ты подумай! Ведь третий ребёнок…
— А чем бы кормили, будь они живы? По миру посылать?
— А Яша слепнет…
— Самим бы не ослепнуть, — сказал Егорша.
Беседовали они долго, и под шелест их голосов я уснул. Солдат разбудил меня на заре. Дождь иссяк, и мы ушли тихонько, как бы опасаясь разбудить хозяев.