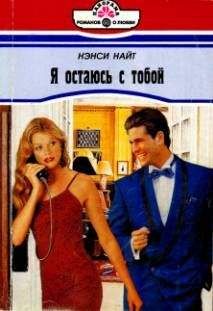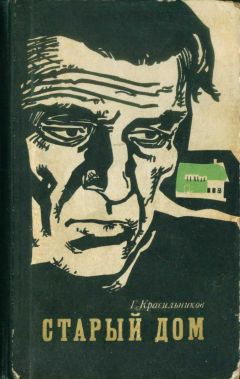Леонид Гаврилкин - Остаюсь с тобой
- Я всегда говорю ерунду. И знаешь почему? Ты никогда не понимал и не хотел понять меня.
- Понимаю, - вдруг вздохнул он. - Но, поверь, обстоятельства... Объяснишь там, что меня переводят. Думаешь, люди не поймут? Поймут и простят.
- Люди простят, только я себе не прощу.
- Тебе, значит, наплевать на меня? - спросил он тихо. - Не хочешь подумать обо мне?
- А ты обо мне? - не сдержалась, крикнула: - Ты обо мне хочешь подумать?
- Я о тебе как раз и думаю. Помнишь, ты когда-то боялась, что нас снова разъединит работа. Она и разъединила нас. Кстати, твоя работа. Мы уже не думаем друг о друге... Заберемся в какую-нибудь глухомань, и у нас снова все будет так, как было и здесь в самом начале, когда мы сюда приехали.
- Меня этим не купишь...
- Я?.. Покупаю? - возмутился Скачков.
- Чего же ты раньше об этом не думал? А когда припекло... - И неожиданно сказала совсем спокойно: - Я никуда не поеду. Если в твоей душе осталось что ко мне, поймешь, а нет, так... Хоть на все четыре! Не держу.
- Вот ты как! - Скачков выбежал из кухни, хлопнул дверьми в передней.
Алла Петровна подскочила к окну, увидела, как он на ходу засовывает рубашку в брюки, а полы пиджака ему мешают. "Ну и ошпаренный, - подумала с болью и горечью. - Дал бы волю злости, накричал бы, а то побежал... Как же, интеллигентный, воспитанный человек. На жену кричать он не может... Теперь будет бегать, пока все в нем не перекипит, не остынет..."
19
Скачков быстро шел по улице. Его, как ветер, гнала мысль, что болезненной занозой сидела в голове: он никому не нужен. Не нужен в управлении, не нужен дома. Все прекрасно обходятся без него, и, исчезни он вдруг совсем, никто не спохватится.
Он сейчас и сам себе не нужен. Но от самого себя никуда не убежишь. Не скроешься.
В груди печет. Язык высох, не повернуть, будто во всем теле не осталось капли влаги. Эх, сейчас бы кружку пива! Холодненького! Вспомнил, что возле универмага всегда стояла желтая бочка на резиновых колесах. Прямиком, закоулками, вышел на центральную улицу, как раз напротив универмага. Возле бочки не было продавца. Наверное, пиво кончилось. Сел в автобус, проехал одну остановку, у городского парка вышел. На дверях павильона, сооруженного недалеко от танцплощадки, висел большой черный замок с беленькой бумажкой в щелке для ключа. На дверях мелом кто-то написал: "Пошла на базу".
- Три дня на той базе, - послышался под ухом ворчливый голос.
Скачков оглянулся. Рядом стоял небритый беззубый мужчина в болоньевой куртке, надетой на голое тело. На волосатой груди синел кривоклювый орел.
- С той базы скоро не возвращаются, - продолжал ворчать беззубый. Сдохнуть можно, пока дождешься. Давай, друг, рублик, мы здесь на травке коленвальчик раскрутим.
- Я пью только лимонад, - зло бросил Скачков и почти побежал вдоль аллеи.
- Ненормальный какой-то, - услыхал вслед.
На берегу Днепра, опираясь на тонкие высокие столбы, нависал над водой небольшой ресторанчик "Волна". Буквы, извещавшие о том, что это именно ресторан, а не что-нибудь другое, были излишне крупные, и из-за этого само строение, особенно издали, казалось игрушечным.
По шаткой кладке с деревянными поручнями, отшлифованными ладонями до блеска, Скачков прошел в зал, в котором не было ни одного человека, уселся за угловым столиком у самого окна, завешенного легкой занавеской. Отодвинул занавеску в сторону, чтобы была видна река, от которой тянуло убаюкивающей прохладой. Вода была серая, хоть над ней и висело небо. Река не освободилась еще от грязи, смытой с прибрежных лугов. За рекой, над рыжим лугом с купками красно-фиолетового чернотала, поднимались мелкие лохматые облачка.
На этом берегу, там, где кончался обрыв и начинался городской пляж, сейчас наполовину залитый водой, бледноногие девчонки играли в мяч. Игра у них никак не ладилась: большой синий мяч все время относило ветром в сторону.
Ближе к ресторану начали строить набережную. Под высоким обрывом заасфальтировали широкую дорожку, берег одели в гранит и на том граните поставили бетонную решетку. В большом городе такая набережная выглядела бы естественной, может быть, даже и скромной, а здесь, на фоне высокого берега с деревянными старыми домиками, она была как осколок какого-то другого города, который попал сюда случайно, по недоразумению. "Как и я - осколок другой жизни, - не вписался в местный пейзаж", - подумал про себя Скачков.
- Здесь есть кто-нибудь? - спросил, нетерпеливо.
Из-за тяжелой зеленой ширмы, которая закрывала заднюю стену зала, выплыла вялая женщина в голубом платьице и голубом кокошнике на русой голове. Она посмотрела на Скачкова туманными глазами и улыбнулась малиновыми губками:
- Я вас слушаю... - Потом достала из кармашка небольшой блокнотик, взяла маленькую беленькую ручку, висевшую на длинной золотой цепочке, приготовилась записывать.
- Бутылочку пива. А если из холодильнике, то и две.
- Пива нет. Не завезли, - медовым голоском пропела официантка.
- Тогда минералки.
- Тоже не завезли.
- Стакан холодной воды, - заволновался Скачков.
- Мы, дорогой товарищ, берем заказы только на то, что в меню.
- А что у вас в меню?
- Все. Смотрите, - официантка положила перед ним узкий длинненький буклетик с голубыми волнами и голубыми чайками на первой странице, улыбнулась полнокровными губками, медленно поплыла за зеленую ширму.
"Научились вежливостью прикрывать хамство", - проворчал Скачков и не стал даже смотреть меню, вышел.
Скачков где-то читал, что самое лучшее средство от скверного настроения - быстрая ходьба. Усиливается обмен веществ, лучше, бодрее работает сердце, светлеет в голове. Он шел по тротуару, еще не зная, куда спешит. На автобусной остановке стоял автомат с газировкой. Сунул в щель копейку, в стакан хлынула пенистая вода. Она была невкусная. Теплая, кисловатая и, казалось, пахла бензином. Он и не допил стакан, вылил и бросился к автобусу, который как раз остановился.
Вернуться домой? Снова спорить с женой? Нет, домой возвращаться рановато. Хоть до вечера надо где-то прошляться.
На автовокзале вылез из автобуса. Хотел заглянуть в буфет - там всегда было свежее пиво... И тут объявили посадку на автобус, который шел через его деревню. "А почему бы не съездить к матери? - подумал Скачков. - Давно не был. Последний раз заезжал к ней вместе с Дорошевичем. Когда это было?.." Вот он сейчас поедет и пробудет там несколько дней. Взял билет, по телефону-автомату позвонил жене. Пусть знает, где он.
- Слушай, я еду в деревню на несколько дней, - сказал таким тоном, как будто предъявлял ей ультиматум.
- Что-о? - рассмеялась.
"Вышибла из колеи, а теперь веселится", - с неприязнью подумал Скачков, а вслух проговорил с усмешкой:
- Как что? Наниматься в пастухи.
- Не до шуточек... - Теперь в голосе слезы.
"Ага, допекло, - обрадовался Скачков. - Подумай обо всем в одиночестве, оно полезно..."
- Я не шучу, - сказал он и повесил трубку.
Автобус был почти совсем пустой. Скачков примостился на переднем сиденье, за кабиной водителя, сидел, понурившись, смотрел в окно и ничего не видел: думал о своем.
Что же случилось? Что вдруг выбило его из той колеи, по которой он так уверенно начал двигаться и, казалось, будет двигаться без конца? Почему у него такое настроение, будто он неожиданно очутился перед глухой стеной и заметался в растерянности, ничего не понимая.
Действительно, что случилось?
Его не уволили. Уволить не уволили, но... Выставили на собрании как последнего дурака. Будто он, Скачков, не работал, а только то и делал, что вредил промыслу. И главное - все слушали и верили. И никто его не защитил... Может, в словах Котянка была правда? Почему он, Скачков, считает, что все делал наилучшим образом? Не ошибался? Может, он и правда надутый карьерист, как сказала о нем жена? Задели его самолюбие и уже - трагедия. Только маскировался? Маскировался перед людьми, маскировался перед самим собой. Выдавал себя за другого. Городил всякую чепуху о призвании, о настоящем деле в жизни, болтал, что ему хочется работать поближе к родным местам. А может, им двигало только его оскорбленное самолюбие? А как же! Его давно задержали на служебной лестнице. Засиделся. Пусть засиделся, и не на маленькой должности, однако человек быстро привыкает к любой должности, и тогда ему хочется большего. Хотелось большего и ему, Скачкову. А то большее каждый раз кто-то перехватывал. В конце концов не выдержал и пошел в самые низы, мол, там живая работа, а не бумажный шум. Все кончилось тем, что дали щелчка, при всех раздели... Он, обиженный, задрожал от злости, только не на себя, а на всех, на весь мир... Если ты действительно не карьерист, если ты не страдаешь отвратительной фанаберией, то чего суетишься, не находишь себе места? Радуйся, что имеешь возможность работать в самых низах, о чем не раз говорил сам... Если быть последовательным, если быть верным своим же словам, надо оставаться здесь и не срывать с места жену - пусть работает, раз нашла себя. Может, она здесь почувствовала себя счастливой? Может, ради нее, ради ее счастья и стоит остаться? И не только ради этого. А чтобы сохранить все лучшее, что в нем есть. Чтобы бороться за лучшее в других. Но рассуждать легче, чем сделать! Он почувствовал, что у него не хватит сил остаться, не хватит сил сделать так, как подсказывает разум. Что-то в душе протестует. Точно вдруг раздвоился. Будто в нем живут два человека и вот сейчас схватились - кто кого... А может, он устал? И все светлое и мрачное, разумное и глупое перемешалось, как перемешиваются белок и желток в яйце-болтуне? Вот и едет, бежит и сам не знает куда...