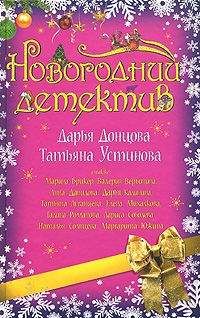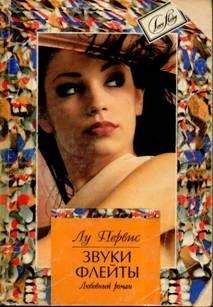Петр Краснов - За чертополохом
Она шла и думала о том, что, в конце концов, это тяжесть, это крест, который порой тяжело нести. И рада была она хотя час побыть одной, и думать, и смотреть как Радость Михайловна, а не как великая княжна.
— Ваше Высочество! — услышала она у поворота дорожки и вздрогнула.
Коренев подходил к ней. Он писал здесь этюд залива.
Радость Михайловна остановилась. Улыбка осветила ее лицо.
— Здравствуйте, Петр Константинович, — сказала она. — Вы здесь писали красками?
— Да. Ваше Высочество! Мне чрезвычайно нужно поговорить с вами не на людях. Я ждал этого случая.
— Я слушаю вас, — сказала Радость Михайловна и села на скамью под сиреневым кустом.
Коренев стал против нее спиной к морю. Смешны были пальцы, замазанные краской. Но и как милы!
— Ваше Высочество, — проговорил Коренев и опустил голову. — Простите… Простите меня… Это, может быть, дерзко… не по правилам. Я люблю вас… Сердцу ведь не закажешь…
Она хотела остановить его и протянула вперед руку, но он поднял голову и сияющими глазами взглянул на нее. Она потупилась от его взора и промолчала. Он осмелел и продолжал:
— Вы для меня все. Все мои мысли, думы, мечты, все о вас. Олицетворили вы в себе все великолепное царство Российское, и не могу, не могу я жить без вас. Знаю, Ваше Высочество, что не так это делается, особливо в царской семье, да сердцу что скажешь? От избытка сердца, читал я в святых книгах, уста глаголят… Вишь, смутили вы меня, заколдовали чарами, призраком приманили, а теперь уже, простите, не могу… Радость Михайловна, повенчаемся где-нибудь на глухом хуторе, заживем тихой жизнью. Забалую, зачарую голубку свою ласками нежными, сильной любовью укрою, и будем жить, как указал Господь.
— Я царская дочь, — сказала Радость Михайловна, — и мне нельзя слушать такие речи.
— Э, полноте, Радость Михайловна! Любовь не знает рангов и отличий. Знаю, что вы ко мне не зло питаете. Ну, скажите прямо и честно, что я такой же смертный, как все люди, или отличили вы меня, выделили, притянули к себе?
Радость Михайловна подняла на него синие глаза. Небо отразилось в них. Честные, прямые, не знающие лжи, царские глаза устремились из-под полога ресниц на Коренева, но он не потупился и не испугался. Увидел, что любили эти глаза. Любили его.
— Да, — твердо проговорила Радость Михайловна, и звенел ее грудной, низкий голос, — да, я люблю вас, Коренев. Я давно отыскала вас в сердце своем, раньше, чем, вы нашли меня. Колдовские чары, каких вы не знаете, указали мне на вас, и я поняла, что люблю. Я отыскала вас, чтобы спасти и дать счастье вернуться на родину. Но выйти замуж?.. Нет, Коренев! Этого никогда не будет!.. Царевна русская принадлежит народу, всему народу, а не одному — как бы она одного этого ни любила.
— Радость Михайловна! — воскликнул Коренев. — Не с царевной говорю я, а с возлюбленной. Не славы и по чести царского дома ищу я, а зову вас разделить тихое счастье русского художника.
— Вы хотите отнять меня от народа? Жестоко, Коренев. Вы хотите жениться на мне и сказать: я не нарушил закона! Я женился не на царской дочери, она отреклась от своего положения. Что Бог определил, того человек не может разрушить. Прадед наш, великомученик государь император Николай II отрекся от престола, и сам за то муки приял и бросил Россию в пучину бед. Христос не отрекся от страстей, Ему назначенных, и пошел на Голгофу. Никто не может отказаться от своего долга! Коренев! Какой пример подам я русскому народу? «Вот, — скажут, — царская дочь, Радость Михайловна, полюбила и бросила нас, полюбила и ушла от нас для своего личного счастья. Так и мы можем: не суровое исполнение долга поставить в угол сердца своего, не жизнь по Христу, но личное счастье». Так, Коренев, и до ужасов большевизма дойдем! Легко, думаете вы, было идти деду моему, Всеволоду Михайловичу, в разгромленную Россию, умирающую от голода? Не мог он разве уехать за границу и жить остатками европейской культуры? Он приял на себя бремя власти, ибо так указал ему Господь! Коренев, Коренев! Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит! В этом великая мудрость народа русского! Пусть будет утешением вам сознание, что царская дочь полюбила вас, что она вызвала вас для того, чтобы указать вам путь славы вашей и вашей родины, любите меня гак, как достойно любить меня и как всякий может любить меня.
— Всякий… — проговорил с тоской Коренев.
— Да, Коренев. Жена есть собственность того, кто женился на женщине. Там, где страсть сменяет любовь, там есть и ревность. Нет дома в России великой, где не висел бы мой портрет. Сейчас восемьсот девиц получат из рук моих портреты и подарки. Неделями и месяцами я должна ездить и дарить улыбки, и говорить слова ласки верноподданным моего государя. Я не могу никому принадлежать, ибо я принадлежу народу. А бросить это все?.. Уйти для личного счастья?.. Нечестно это, Коренев. Ужели вы захотите, чтобы великая княжна, дочь государева, сделала нечестное дело?
— Я люблю вас, — прошептал Коренев.
— Знаю, Петр Константинович, и ценю вашу любовь. Ваша любовь большое для меня утешение.
— Без вас я умру…
— Грех говорить так, Коренев.
— Радость Михайловна! Ужели и надежды не подадите вы мне никакой?
— Я — царская дочь, — сказала Радость Михайловна. — Вы слышите, — она протянула руку по направлению к главной аллее парка, — шум девичьих голосов? Молодая Россия ждет меня. Я-воспитание многих и многих, я — пример!.. И я… — как бы тяжело это мне не было, — худого примера не подам. Довольно прошлого! Настоящее и будущее, Коренев, должно быть безоблачно, и царской семье никто больше не кинет упрека, что она жила для себя и забыла народ.
Радость Михайловна встала и быстро, не оборачиваясь, пошла к аллее фонтанов. Коренев слышал торжественные звуки музыки и голоса сотен девушек. Он пошел на голоса напрямик, по газонам. Увидал высокую, в глубину неба бьющую, струю серебряного фонтана, золотую статую Самсона, раздирающего пасть льва, а кругом все было бело от девичьих платьев, словно масса громадных живых весенних цветов колыхалась на широких лужайках и песчаных дорогах парка. Они покрыли лестницы, они колыхались розовыми головками наверху холма, где под золотой крышей стоял дворец.
— Радость Михайловна! Радость Михайловна! — неслось оттуда, как музыка.
Со смущенным сердцем Коренев пошел окольными путями из парка.
XIV
Вечером того же дня Коренев звонил к Дятлову. В щелку приотворенной двери показалось бледное лицо с жидкими взлохмаченными волосами.
— А! Коренев. Очень кстати, — отворяя дверь, проговорил Дятлов. — Я только что о вас думал. Входите, входите сюда.
Он провел Коренева в дальнюю комнату и тщательно запер двери. Здесь, у большого массивного стола, был привинчен металлический верстак, валялись сверла, долота, напильники, пол усыпан был стальными опилками, пахло едким запахом серной кислоты.
— Ну что? — сказал Дятлов, вглядываясь в лицо Коренева, искаженное мукой. — Отказала? Я так и знал. Отказала потому, что царская дочь. Прекрасно, Коренев, прекрасно… Я все думал, кому открыть свою тайну, потому что подленькое-то честолюбие осталось и захотелось в историю перейти, имя свое увековечить этим террористическим экспериментом! Думал, мисс Креггс, но с ее гуманизмом выдаст, разболтает во имя непротивления злу. А вы? Ведь я и вас спасаю… Она не идет за вас потому, что царская дочь, да?
— Да, она не может выйти замуж. Я думаю, что она права, — сказал Коренев.
— Отлично, отлично, — в каком-то нервном возбуждении говорил Дятлов. — А если завтра она не будет царской дочерью — тогда другой оборот. И этим вы будете мне обязаны. Когда-нибудь вы опишете, вы нарисуете мой подвиг в назидание другим революционерам. Пресса всего мира заговорит обо мне.
— Я вас не понимаю, Демократ Александрович, — сказал Коренев. — Как не царская дочь?
— Мерси, Коренев, что Демократом меня назвали. Боялся, что по фамилии. Эти полгода я тоже кое-что сделал, кое-что обдумал, обмозговал. Не только «Обойденных жизнью» написал. Хотя и в «Обойденных» есть уже маленькое достижение революции — Демократ! Недаром меня так назвали. Вся власть народу! А на пути — царь. Я тут пробовал, изучал, искал помощников. Нет, Коренев, все — лакеи, угодники, идиоты, мерзавцы. Царь — помазанник Божий, да и все тут, вера какая-то дикая. А кругом эта византийщина, блеск, красота и милость, милость!!! А тут, как назло, землей объелись, все собственники, голоду не знают — довольны. Христианская вера подсобляет. Ну, замучился. Сам, один. Думал, думал и нашел. Вся Русь на Царе и Боге… Бога-то не сковырнешь так сразу. И вот изучал я историю. Надо царя… Поняли?
— Ничего я не понимаю, — сказал Коренев и, стоя у станка, разглядывал большой, тяжелый напильник. — О чем вы говорите, чем занимались вы? Что это за инструменты, столь несвойственные вашей мирной профессии?