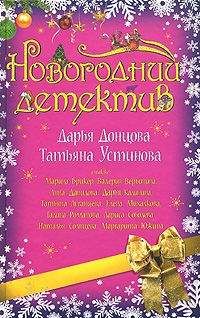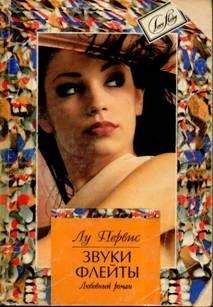Петр Краснов - За чертополохом
— На шамане, — сказала она, не поворачиваясь от картины, — были только раковины. Не было птичьих черепов.
— На рисунках шаманов… — начал Коренев, но она перебила его:
— Только раковины больших черных улиток, круглые, зеленовато-серые с белым пятнышком, и белые, согнутые, как рог, длинные, узкие, вот такие, — она взяла тетрадь для набросков и показала карандашом, какие были раковины.
Коренев с удивлением посмотрел на нее.
— Да, — сказал он, — вы правы. Я брал шамана Вятского воеводства.
— Это было в Новгородской пятине, — настойчиво сказала Радость Михайловна. — На царевне были нежные белые заячьи шкурки, а не шкура волка, как написали вы. Она была гораздо более одета.
— Это действительно будет очень красиво, — сказал Коренев, — белый заячий пух на фоне шерсти серого волчка.
— Не красиво, Петр Константинович, а правдиво. Это так было. Картина тогда хороша, когда она правда.
— Но, Ваше Высочество, — сказал севший сзади княжны Самобор, — картины господина Коренева — чистый вымысел. И та картина, которую он выставил, является выдуманным образом, и эта.
— Спросите господина Коренева, — сказала Радость Михайловна, — выдумал ли он первую картину? — и она первый раз посмотрела на Коренева.
Незнакомое смущение охватило ее. Точно две одинаковые струны были натянуты в них. Звучала одна — и другая сейчас же ей вторила. Коренев не смотрел на картину. Он смотрел на княжну. Сенная девушка отозвала Самобора к какому-то наброску. Они были четверо в мастерской, но у картины они были только двое, и Радости Михайловне казалось, что она испытывает снова то ощущение свободы и спасения, которое было в снах.
— Откуда вам пришла мысль написать такую картину? — повысив голос, сказала Радость Михайловна.
— Это сказка, — сказал Коренев. — Я хотел придать ей реальные формы. Змей Горыныч — одно из допотопных чудовищ, скелеты их можем видеть в санкт-петербургской кунсткамере, и образы их ученые сумели восстановить. Обстановка жертвоприношения в лесу взята мной из описаний различных вотяцких, зырянских и вогульских действ конца XVIII века.
— Нет, это не так, — глядя прямо в глаза Кореневу, сказала княжна. — Вы видели это. Вы переживали это когда-то.
— Когда? Как? Как я мог пережить это?
Княжна смотрела прямо ему в глаза, и сильно билось сердце Коренева.
— Когда? Как? — повторила она. — Прежде. Вы знаете, кто она? — Радость Михайловна глазами указала на царевну в руках спасителя.
Коренев молча кивнул головой. Сам не понимал — почему.
— Я не посмел придать ей верные черты, — тихо проговорил он.
— Вы правы, — сказала она. — Не нужно, чтобы кто-нибудь знал это, кроме нас… А кто он?
— Не знаю…
— Правда?
— Не знаю…
Под пристальным взглядом Радости Михайловны Коренев покраснел до корней волос.
— Вы знаете, — сказала она, упорно глядя прямо в глаза Кореневу. — Вы знаете меньше меня, но вы знаете многое.
— Скажите, Ваше Высочество, в германской земле меня тревожил призрак…
— Это не был призрак…
— Это были вы?
— Я звала вас как русского вернуться в Россию. Вы уже видали, что мы в нашем уединении достигли многого, чего не знают в Европе. Я отыскала вас.
— Почему меня? — прошептал Коренев.
— Потому что… Потому что, — она не знала, что сказать. — У вас русская душа, и я знала, что вы откликнитесь на мой зов.
— Но почему не Бакланов, не Дятлов? — Вы… Я хотела именно вас.
— Как вы нашли меня?
— Чары… Не будем говорить об этом. Есть у меня знания… Лучше было бы, чтобы их не было. Лучше не знать. Меньше страдаешь.
— Вы страдаете? О! Боже мой! — воскликнул, отступая на шаг от княжны, Коренев. — Возьмите всю жизнь мою, весь мой талант, но только чтобы ни тени печали, ни облака сомнения не туманили вашего прекрасного лица. Ваше Высочество — я раб ваш!
— Раб потому, что я дочь вашего императора, или потому, что я — Радость Михайловна и…
— Ваше Высочество, мое несчастье в том, что вы дочь императора, а не простая смертная. Но… талант, работа, подвиг в нашем прекрасном государстве — разве это не все? Разве это не выравнивает неравенства рождения? Здесь все так разумно!
— Долг, Петр Константинович, стоит у нас превыше всего. Долг перед Богом, долг перед родиной, долг перед народом. Христос сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее».
Коренев пожал плечами.
— Ваше Высочество, — оказала сенная девушка, — взгляните, какой великолепный набросок раненого волка. Прямо больно смотреть на него.
Радость Михайловна покраснела. Это было первый раз, что сенная девушка напомнила ей о ее долге, о том, что разговор ее с молодым художником излишне продолжителен.
Радость Михайловна встала.
— До свидания, Коренев, — сказала она. — Храни вас Господь. Пятую и шестую недели Великого поста я буду проводить в Петергофе, в Монплезире. Буду рада вас видеть у себя.
Она подошла к подмалевку.
— Раненый волк, — сказала она. — Да… Сколько муки в этих желто-серых глазах… Но что такое смерть? Смерти нет и для животных. Идемте, Николай Семенович. Большое, большое спасибо вам, Коренев, что доставили столько удовольствия своей картиной. Она будет великолепна. Я уверена: она вам удастся.
XIII
Стояла бледная петербургская весна. На низком солнце млела Маркизова лужа, в синеву ударялись мелкие волны, отражая голубое небо и сверкая на солнце золотистыми переплесками. Было тепло. Иголками показалась из черной земли зеленая трава, и ручьи бежали по ней, извиваясь между деревьев старого парка. Береза выпустила клейкие листочки, опушалась духовитыми сережками и стояла, полная северной тайны, как шаман, увешанный палочками, в берестовом костюме. Осина трепетала розовыми листьями. Точно снегом усеянная, в хлопьях белых цветов стояла душистая черемуха, сирени кругом золотого Самсона были покрыты лиловыми и белыми гвоздьями цветов, и даже черные дубы помолодели и скрыли морщины толстых стволов и раскидистых ветвей под нежным налетом молодой зелени. Птицы пели, шептало о камыши море, казалось, земля тихо дышала, открывая объятие небу, и из дыхания ее лиловым паром шли фиалки и белые анемоны и выступали пестрым ковром на тенистых лужайках.
У Монплезира сотни дворцовых служителей расставляли столы в саду и накрывали их скатертями — ждали воспитанниц петербургских средних школ на чай по случаю их выпуска. За отъездом императора и императрицы в Москву на открытие Всероссийской конской выставки принимать их должна была Радость Михайловна.
Накануне до часа ночи она провела на выпускном спектакле Театральной школы. Она была утомлена. Она чувствовала, что всем нужна, что без нее и праздник будет не в праздник, и если не она раздаст свидетельства и награды, то это будет, как сказала ей одна воспитанница: «Не то, совсем не то».
Но утро у нее было свободно. Она шла по дорожке парка. Справа тихо шептало море, подбегая плоскими волнами к траве, где цвели желтые одуванчики, слева стеной стояли кусты. Впереди, синея, сверкало море, видны были остатки старой пристани, и за ними четко рисовались стены, дома и трубы Кронштадта. Золотом горел обновленный купол Андреевского собора.
Радость Михайловна шла медленно, задумавшись. Она думала о том, как ей принять до восьмисот девиц петербургских школ и каждой сказать ласковое слово, на каждую взглянуть и обласкать улыбкой. Потому что знала, какое горе будет, если кто-нибудь потом скажет: «Меня не заметила великая княжна!» — «Почему на меня не посмотрела?» Знала Радость Михайловна, как уже старые женщины вспоминали этот петергофский чай и повторяли слова, которые им сказала когда-то ее бабушка, государыня Елена Иоанновна…
Миллионы людей — в северных тундрах, в золотоглавой Москве, в раздольной и богатой Украине, на тихом Дону, в Крыму и на Кавказе, на склонах Гималайских гор, в угрюмой тайге, на Камчатских приисках — жажда ли видеть и слышать свою царевну, и Радость Михайловна должна была ездить по всей империи и расточать улыбки и слова ласки.
Она была для всех, и менее всего была для самой себя. Каждый жест, слово, одежда, прическа должны были быть обдуманы, потому что знала Радость Михайловна, что тысячи глаз следят за ней и смотрят на нее как на божество. Ей показывали косточку от абрикоса, который она ела два года тому назад в каком-то доме на пути в Севастополь. Косточка лежала в особой коробочке, на лиловом бархате как драгоценность.
Она шла и думала о том, что, в конце концов, это тяжесть, это крест, который порой тяжело нести. И рада была она хотя час побыть одной, и думать, и смотреть как Радость Михайловна, а не как великая княжна.