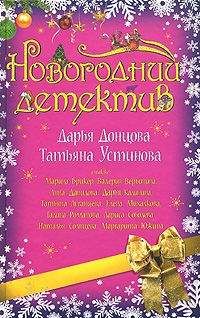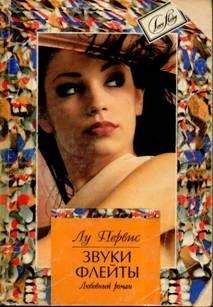Петр Краснов - За чертополохом
Клейст стоял, понурившись.
— Рано начал, — пробормотал он. — Еще глубока и кровоточива немцами нанесенная рана России.
— Нет, — тихо сказал Коренев, — нет, дорогой профессор… Не дело царской дочери слушать о политике… Напрасно вы ее смущали.
Клейст потрепал по щеке ребенка Эльзы и сказал:
— Так… Очень уж к слову пришлось!..
XXII
Весь заиндевелый, со стеклами, покрытыми матовым узором льда и света, с вантами и поручнями, как из толстого стекла вылепленными, тихо опускался в вечную декабрьскую ночь самолет «Светлана». Нигде не было видно ни леса, ни кустов, ни отдельных деревьев. Снег и льды, льды и снег были кругом в сумраке ночи, нарушаемом трепетными вспышками северного сияния.
На берегу замерзшего океана, с нагроможденными в осенний ледостав синими глыбами льда, чуть светились окна большого белого каменного здания, окруженного высокой оградой. За оградой были небольшие, видимо, с трудом выращенные деревья, осыпанные снегом, с обледенелыми стволами. Белые мохнатые собаки, увидав самолет, подняли тупые морды с черными носами и принялись выть.
Самолет, не доходя аршина до земли, остановился у ворот забора, и матросы, похожие в громадных шубах на медведей, спустили лестницу.
Из каюты вышла одетая в белую шубу Радость Михайловна. Атаман Перский провожал ее.
— Благодарю вас, атаман, — сказала княжна. — Ровно через две недели я попрошу вас прибыть за мной. Праздники Рождества я хочу провести у императрицы-матери.
— Есть, Ваше Императорское Высочество, — сказал Перский.
— Спасибо, родные. Не замерзли? — сказала Радость Михайловна матросам, выскочившим на верхнюю палубу.
— Рады стараться государю и родине, — сказали матросы. — Чего замерзать? Одеты способно. Тепло в шубах-то.
— До свиданья, родные!
— Счастливо оставаться, родная царевна! — ответили матросы.
— Отпустите караул, — сказала княжна. — Отсвистать, — приказал Перский.
Мелодично просвистала флейта корабельного старосты, и караул разошелся.
Перский проводил великую княжну до ворот обители. Там ожидали ее монахини с настоятельницей во главе. Большой градусник у ворот показывал 40 Реомюра ниже нуля. Снег был тверд и гулко скрипел под ногами. Монахини шли за великой княжной и тонкими голосами пели духовные встречные стихи.
— Бабушка здорова? — спросила Радость Михайловна.
— Ожидают вас.
Большой ручной белый медведь, лежавший у подъезда, отошел в сторону и поклонился, прижимаясь мордой к снегу. Собаки с лаем бежали к княжне и махали густошерстными хвостами.
Радость Михайловна вошла в теплые, пахнущие ладаном, воском и деревянным маслом сени и стала снимать шубы.
XXIII
В окно глядит долгая полярная ночь. Северное сияние погасло. Ярко горят большие близкие звезды. Бесконечен синий простор темного неба, лиловым туманом заплыли белые снега и льды.
В маленькой келье полумрак. У иконы Казанской Божией Матери мечется пламя в желтой лампадке. Старое лицо с чертами, точно изваянными из слоновой кости, склонилось к молодому лицу.
Императрица-мать, инокиня Людмила, нагнулась к внучке своей, Радости Михайловне. Она сидит в большом кресле. Радость Михайловна стоит на коленях перед ней и смотрит в старые светло-серые глаза.
— Все любишь, Рада?
— Люблю, бабушка.
— Тяжело, поди?
— Терплю.
— А не похудела.
— Знаю, нельзя красоту потерять. И красота не моя, а народная.
— Верно, Рада. Верно, роднуша моя. Вот и я или мать твоя Искандер, — мы любили мужей наших императоров, а когда видали мы их?.. Идешь на выходе рядом, только и чувствуешь его, любимого. А потом у него свои дела, у меня свои — все для народа. Только тогда народ и ценит, и верит, когда видит, что у царей его своего — ничего. Все простит, все помилует ради дела, а личного не поймет и не оценит. Такой был Петр. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник…» И, когда надо было для России, — сына казнил. Так-то, милая Рада… сына казнил… Зато, когда сказал: «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жива была бы Россия», — ему и поверили, и царские три пули в сердцах русских не умрут никогда. Твой дед, муж мой, и я, твоя бабка, твои родители чем победили социалистов? Чистотой и честностью. Преклонением перед разумным законом и твердой волей. Мы-то знаем твои чувства, мы-то поймем! А народ — народ не оценит. «Вот, — скажут, — своего хахаля захотела! А нас позабыла!» Народ-то грубый. Ему ласку твою как надо! И то подумай, что у него? Зима — семь месяцев. С октября по самый апрель — вьюга да морозы, да земля распустится — грязь, одиночество. Ночка-то темная, а тут то ты, то царь-батюшка, то царица-матушка прилетят, ласковым словом одарят бедных, чем ни есть пожалуют, богатых похвалят, хозяйство их оглядят да приласкают. В Семиречье поедешь?
— Поеду, бабушка.
— Ну, ну, и ладно это.
— А потом в Татьянск, бабушка, на прииски.
— Ну спасибо, роднуша! Вишь ты какая! А искренно едешь или так, чтобы тоску развеять?
— Тоску развеять хочу, бабушка. Намедни в Калише на выставке картин увидела его с женой, мальчик у них прехорошенький, видно, счастливы. Еле удержалась, чтобы не позавидовать.
— А народ тебе завидует. Ишь ты — царская дочь! Власть-то какая!
— Власть — не счастье, бабушка.
— Верное твое слово, Рада. Бремя власть и — во какое бремя. Тот царь благословен, что идет во имя Господне.
— Знаю, бабушка. И снесу свой крест, и никто не увидит. Знаю, что моя семья — мой народ, и крепко его люблю. Вот завтра по эскимосам поеду, говорить с ними буду, детей их одаривать. Что, мисс Креггс работает здесь?
— Работает. Трудно ей было понять, что тут надо. В общество писала, что тут не носовые платки надо, а электрические печки.
— Что же, прислали?
— Нет, американцы тупой народ. Не понимают этого. Ну, я устроила. Монастырскую мастерскую открыли, печи готовим. Силу монастырь дает, а она только ездит и наши печи по чумам распределяет. Довольна.
— Взять ее завтра с собой?
— Возьми, роднуша. Осчастливь ее. Она хоть и американка, а к титулам падка. Все мечтает за эскимосского князя какого-нибудь замуж выйти.
— Пошли ей Бог счастья, — со вздохом сказала Радость Михайловна.
— Что вздыхаешь, родная?
— Так, бабушка. Свое вспомнила.
— А ты не вспоминай. Помни, что своего у тебя нет. Все чужое тебе — как свое. Да молись покрепче.
— Знаю, бабушка. Снесу крест свой. А как ослабну, к тебе навсегда перееду.
— И то. Тут тихо.
Радость Михайловна не отвечала. В маленькие окна глядела синяя полярная ночь, ярко сверкали холодные звезды, бриллиантами отражались в синих глазах девушки. То ли блестели они очень, то ли слезы ненароком забрались в их уголки?
— Баба, — оказала Радость Михайловна. — А хорошо у тебя.
— Хорошо, милая. И везде-то Божий мир хорош. И всякая тварь Господу Сил радуется. Возьми, медведь и полярная собака — уже, кажется, ни зелени, ни лесов, ни цветов пахучих не видали, а славят Господа, Творца вселенной. Один человек недоволен. Все чего-то ему особенного хочется.
Долго молчит Радость Михайловна. Тихо в теплой келье. Пахнет розовым маслом, ладаном, воском, ни один звук не доносился ниоткуда.
— Ты не ворчи, бабушка, — шепчет Радость Михайловна. — Я довольна, всем довольна. Бога гневить не буду. Я справлюсь… справлюсь… бабушка.
Слезы ручьями текут из синих глаз и мочат горячими каплями старые, мягкие, душистые руки.
— Святые твои слезы, Рада милая! Плачь, роднуша. После слез новая сила будет!..
— Будет, бабушка!.. Бу-у-дет… Я спра…влюсь… справлюсь… Я царская дочь… справлюсь… снесу свое личное горе во имя счастья своего народа!..
Июль — ноябрь 1921 г.
Вальдфрид, подле Дроссена, Германия
Примечания
1
(Мария сидела на камне, на камне, на камне… (нем.) — немецкая детская песня-игра.)
2
(И причесывала свои золотые волосы, свои золотые волосы, свои золотые волосы… (нем.))
3
Немецкой национальной партии (нем.))