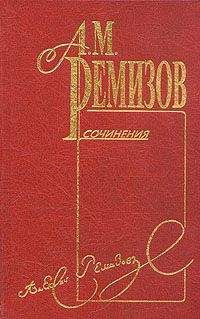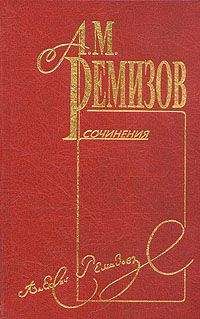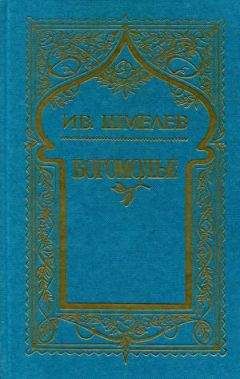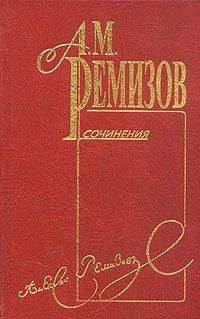Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
И на всех этих пространствах – на тысячи тысяч верст – ступила нога русского – и уж он не Пришвин, русский, а «Черный Араб»2, загадочный и ни-на-что-не-похожий, а там, у Даурских гор, он превратится в Белого Китайца. И всюду будет желанный гость.
И то, что глаза его увидят – глаза его зорко-птичьи, и то, что тронет его сердце, открытое ко всему живому Божьему миру, он, одаренный слухом к свисту птиц, дыханию трав и мурму зверей, передаст в своих рассказах русским словом, памятным на тысячи тысяч верст.
«Я счастлив, что встретился с вами, – скажу я, – и на мою долю выпала честь направить вашу руку в трудной работе над словом».
В литературе Пришвин выступил в 1907 году: это первые книги географически-учебного характера – очерки. «В стране непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908). Но как писатель Пришвин начинается с рассказа «У горелого пня», напечатанного в петербургском избранном журнале «Аполлон» в 1909 г. А вскоре после встречи с Горьким «Знание» выпустит три книги его рассказов, куда входит «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Птичье кладбище» (1913–1914) И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей.
Пришвин идет не из пуста, он продолжает традиции русской литературы. По тишине и растворению благодати Пришвин подхватывает голос С. Т. Аксакова (1791–1856) с его разливной в мире трепещущей жизнью, где не найдете ни косого взгляда, ни злого зуба, а есть только заботливая теплая любовь. По словарю Пришвин продолжает Е. Дриянского, автора «Записок мелкотравчатого» (1857), первого в русской литературе по богатству языка, а тема Дриянского общая с Пришвиным: земля, небо, звери и птицы, В своих очерках странника Пришвин ученик В. Г. Короленко (1853–1921), то же внимание, бережность и чистота. А в своей памяти о первых годах жизни Пришвин идет с Гариным-Михайловским (1852–1906), автором «Детства Темы». А то, что назовут пришвинским – это его мир зверей: его олени, гуси, собаки, перепела, ежик, – тут Пришвин продолжает Решетникова (1841–1871), открывшего человекообразных, Пилу и Сысойку3, стоящих на грани «безгрешных» зверей. Решетников подслушал слово в бессловесном человеке, а Пришвин расслышал голос немого зверя.
Когда-то елецкий «черный араб», а теперь как лунь бородатый, белый медведчик и волхв – Михайло Михайлович Пришвин. А над ним серебряные тихие русские звезды.
Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит, этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир с цветами и звездами и что недаром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть еще в мире простота, детскость и доверчивость – жив «человек».
7 Стоять – негасимую свечу*
– – – море-могилы, мшистые кочки, крестная дорога разошлась по России – Россия, какой она мне снится, весенняя в мураве моей суздальской родины, кукушачья – подмосковный звенигородской лес в вечерний час, или галочье ненастье – Петербург, куда ни обернусь: кресты.
Первый крест – наше последнее прощание: Блок, памятно, как кровь: это было и наше «прощайте» – последнее – русской земле. За Блоком Гумилев… Розанов, Брюсов, Гершензон, Сологуб, Есенин, Добронравов, Андрей Белый, а в прошлом году Кузмин, Горький, а вот и Замятина похоронили.
* * *«Стоять – негасимую свечу», так в старину о канонницах, читают псалтырь, так мне сказалось о Замятине, о его словесной работе. Только Андрей Белый так сознательно строил свою прозу, а положил «начал» Гоголь – первый Флобер в русской литературе, а за Гоголем, за Марлинским, Слепцов…
* * *Я лежал в жару. Только газета, перо и кисточка. В память Пушкина я хотел изобразить его сны – шесть снов; рисование помогает моему глазу различать в темноте сновидений чего не схватить словом, – а температура сочиняет краски. В сумерки мне сказали, что произошла «большая неприятность». Сказано было голосом, я знаю все его оттенки, и я почувствовал очень тревожное. Мысленно пронеслось: налог, молочница, газ, электричество – кому не должим!
«Е. И. Замятин помер!»
* * *В ту ночь: сижу на кухне у стола, а ко мне лицом, у плиты примостилась, подбородком на плиту и правую руку так, торчмя над головой держит, как кот лапу, когда ищется, но это была не канонница Нестерова1, «негасимая свеча», белица2 «Лесов» Печерского, а очень худенькая, совсем еще подросток, костлявая, с неправильным лицом, я понимаю, нос переломан, и не прямо, исподлобья трудно – веки ее до кирпича воспалены – с болью смотрит на меня – – – – – – …за пять лет заграничной жизни, – продолжаю о Замятине, – все он куда-то торопился… или это его «сценарии» отнимали все его время? – кинематографический сценарий! какое тут словесное искусство? и который и легче и в цель напишется у Осипа Дымова. Или хлопоты о устройстве своего по-французски, перевода? – Но до верхов все равно не добраться: подлинные словесные конструкции непереводимы, а архитектурными при ихнем-то богатстве, ведь мы на родине Буало, – не удивишь; «мысли» и «познание» – извороты и тайники человеческой души… но надо что-то от Толстого, Достоевского или хотя бы от Салтыкова. Или надо было добиваться, поддерживать связи с их пустыми обещаниями и ожиданием – вроде миллионной лотереи – самообманом, «а вдруг да…?» И вот все некогда.
И так мало было сказано за эти годы. И только раз на Марше д’Отей, на нашем базаре, я за картошкой, он с почты, и почему-то я стал говорить, вспомнив петербургское, о его рассказах, как хорошо он пишет: «…когда же заговорите своим голосом?» А хотел я сказать, и он понял, я хотел сказать, что во всех его прекраснейших строках я не чувствую музыки и надо что-то – но что еще надо? – чтобы распечатать его сердце, – «когда же?» И он мне ответил: «будет», – и напомнил, что раз я его спрашивал и теми же словами в Петербурге. И я подумал: нет, это у него не от математики.
«Вы понимаете, откуда серебряная песня Гоголя, раздумная печаль у Толстого, огненная боль у Достоевского, тоска у Чехова». И вдруг я понял… мне почуялось: «будет», как сказал Замятин, но какой это был странный скрипящий голос, такие никогда не поют, я понял, что это она – с переломанным носом и торчащей, как лапа, рукой, с болью смотревшая на меня… душа Замятина, и что больше никогда не «будет». И мне было трепетно смотреть на нее.
* * *Оттого ли, что словесное Замятина так неразрывно с моим и наша общая любовь к русскому «старому пению» (потом уж я узнал: последнее, что унес он на тот свет, слышал незадолго до смерти, был Мусоргский), с Замятиным у меня связаны сны. Сам он закрыт от этого мира, и не было у него двойной памяти.
Когда я писал отчет о его «Огнях св. Доминика»3 (1920) – Замятин по природе не лирик, и только строитель, не мог создать трагического театра, – и вышло под оперу, я много об этом думал и мне приснилось.4Я увидел одно из самых страшных по сказаниям: его видение было заслонено еще двумя, стоящими один за другим, и через их глаза я проник и увидел. в его глазах кипел нестерпимо щемящий огонь – это был «демон пустыни» – демон одиночества, беспризорности и отчаяния.
В пасмурное петербургское утро похоронили Замятина.
Не пришлось проводить его на далекое кладбище, где хоронят русскую беспризорную бедноту. Но мне казалось я все вижу, и под дождем и ветром мне очень зябко – я видел, как вынесли дощатый гроб, и я вспомнил Некрасова, нашу традицию и жестокую судьбу «сочинителя».5 И каким ненужным показался мне дурацкий кинематограф – работа последних лет Замятина; ведь дело его жизни, все эти словесные конструкции русского лада – это наше русское, русская книжная казна. И мастерство. Вы думаете, сел и написал, и напечатали, нет: взять готовый набор и рассыпать, и уж голыми руками за эти раскаленные добела буквы, чтобы закрепить из тысячи одно слово! И моя была горстка земли в его могилу, мое последнее прощайте, мое признание за его труд, его работу и мастерство.
* * *Замятин из Лебедяни, тамбовский, и стихия его отборно русская. Прозвище: «англичанин». Как будто он и сам поверил, – а это тоже очень русское. Внешне было «прилично» и до Англии, где он прожил всего полтора года, и никакое это не английское, а просто под инженерскую гребенку, а разойдется – смотрите: Лебедянский молодец с пробором! И читал он свои рассказы под «простака».
Таким вот англичанином под простака я увидел его в день похорон: к книжной полке у окна он прислонился. Видят его или нет, я не знаю, но я вижу, он в смокинге, глаза закрыты и лицо розоватое, очень чистое, и только руки, он описал их в «Мы», покрытые шерстью, висят6. В комнате горит электричество. И вдруг, как механически, он опустился на пол, ноги, не разгибаясь, вытянулись и он сел. А вдруг поднялись мои «чудовища», фейрменхены в колпачках и цверги, сучки, рогатины и «потыкушки», и я заметил, он сделал так ртом. «Смотрите, он дышит!» Но в это время электричество стало гаснуть. «Я подолью!» не сказал я «керосина», но это понятно. А свет уже погас. И вошел Горький, узнать нельзя, как от куафера, эндефризабль7, – такая африканская шевелюра. Я поздоровался. А он, не отвечая, и очень деловито ногой отпихнул моих цвергов, поднял Замятина себе на руки и понес под мышкой, как книгу.