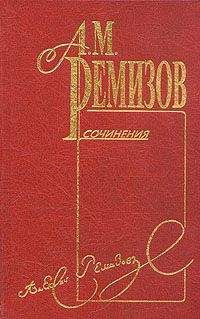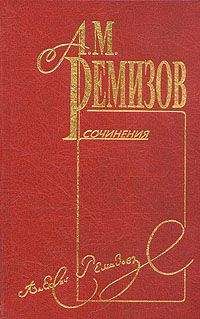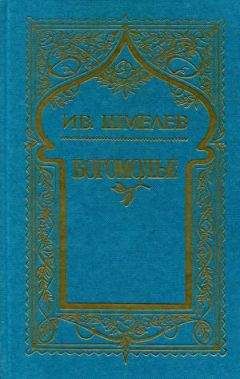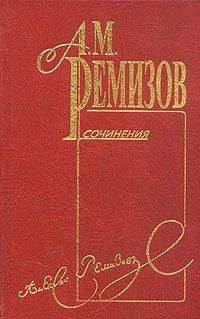Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
Голос Шаляпина жив, живет и живит. Я храню его в моем сердце, как и все, кому выпало счастье, а это было подлинное счастье слушать – и слышать и чувствовать.
Лучшую свою повесть, навеянную «Лесами и горами» Мельникова-Печерского8, «Трое» Горький посвятил Шаляпину. И Блок унес этот голос к звездам на океан – на воздушный – со всей болью и своих братьев: Некрасова и Лермонтова.
Что же ты потупилась в смущеньи9?
Погляди, как прежде, на меня
Вот какой ты стала в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня
Я и сам ведь не такой – не прежний
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.
Унесли с собой голос Шаляпина и к тем же звездам сверстники Блока, два блестящих французских писателя Alain Fournier и Jacques Rivière, им выпало то же счастье: однажды в Париже они, по их признаниям, потрясены были «Борисом Годуновым» с Шаляпиным.
Унесли этот голос и другие прославленные, и те, безымянные, но из которых каждый для кого-то-нибудь в мире был единственный – за полвека сколько их перебывало на Шаляпине, выстаивая ночи в очереди за билетом, и как часто на последние! – и все к тем же звездам в звездное царство неизгладимых воспоминаний –
и звезда с звездою говорит…10
А познакомил меня с Шаляпиным Дягилев на первом моем петербургском выступлении со чтением моих «сказок»: рука счастливая.
И вот наша последняя встреча: Париж, прощальный концерт в Плейель с хором Афонского: стихи Некрасова – «Было двенадцать разбойников11 – был Кудеяр атаман» и заключительная – «Англичанин-хитрец,12 чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину – а наш русский мужик, коль работать невмочь, он затянет родную дубину, эй, дубинушка, ухнем!»
Так кончился Шаляпин – его последнее слово: наша горькая русская правда.
И если Толстой и Достоевский на последнем суде скажут последнее слово за русскую землю, Шаляпин пропоет это последнее слово за весь русский народ.
5 Царский конь. Интермедия*
Я попал в литературу по «недоразумению», с кем-то спутали, но в конце-то концов все обошлось и образовалось, пусть «подставной», пусть «походный», а все-таки писатель, и никакая не «креветка», как сам я себя однажды вообразил от неожиданности, в недоумении. Но бывают в жизни «скверные» недоразумения, как «скверные анекдоты»1, о которых хочется забыть, а никак не расписывать и панихиды петь в «вечную память». Такое случилось однажды с Шаляпиным, о чем я и расскажу вам не столько для развлечения, сколько в научение. Видите, я и в мораль верую, и в науку, хоть и отрицаю – от отчаяния, конечно, не от гордости.
Бывший директор консерватории, нашумевший своим «Интимным романсом», и эта трагическая история с певицей Азарьиной, Глеб Холмский-Чижов, – а какая библиотека, все театр, и память, сойдутся приятели, такой есть Гаврилов, слушать жутко, с Волкова начнут, все-то у них как в зеркале, а чтобы записать, я заметил, таким легче кротов ловить. В молодости в Москве, оба мы отчаянные театралы, нас так и звали «два-сапога-пара», много всяких театров видывали и на всякие цирковые чудовища-фокусы от удовольствия рты разевывали. Признаюсь, запамятовал, но Чижов, у него не моя, не куриная, напомнил мне облетевший всю Москву случай с Шаляпиным, а это и было разыгравшееся на наших глазах «скандальное недоразумение». Но нигде в истории русского театра, ни у Гернгросса-Всеволодского, ни у Вельтер-Евреинова2 ни одним боком оно не просовывается. А жаль – и опять же для науки.
Первое представление «Псковитянки»3 совпало с Валькириями4, и все кони были разобраны под Вагнера. Один конь – не тронули, на покое жил, помнит и Верстовского, и Алябьева, и Пуни, конь, только его не пришпоривай, может и сто лет прожить незаметно. Этого античного коня и назначили под царя Ивана Васильевича – Шаляпина. И постарались.
«Шаляпин, – говорилось, – сам, Федор Иваныч, подкормите коня, постарайтесь!»
А «стараться» тоже, понимаете, надо с толком, чем русский человек как раз похвастаться никогда не мог: уж коли стараться, так вовсю, а что выйдет или не выйдет, не наше дело!
За три дня до представления коня кормят.
Конь сообразить ничего не может, ест без отказа. Потом вспомнил: опера «Сомнамбула»5: «Уж не под итальянца ли опять подсаживаться?» Но вокруг все говорят по-русски и чаще повторяется «Федор Иваныч». «Уж не меня ли это, думает конь, Федор Иваныч?» Обращение самое предупредительное, на цыпочках ходят, а уход как за царским конем.
«Да ты и есть царский конь», – кто-то говорит ему (не Шаляпин ли?) и, лапой холку пошевеливая, ласкает.
В день представления конь был готов: постарались! Конь едва передвигал ноги, но смотрит молодцом. А чем его только ни пичкали – индюку орехи полагаются, так в овес грызенных грецких орехов с пуд подбросили коню будто в ярь! – «Молодому точно что в ярь, надо было бы сказать, а старому только желудок портить!» Да никого не нашлось. Конечно, коня окормили, и посмотрите, что произошло.
В решительную минуту Шаляпин во всем тяжелом царском одеянии с подсадкой вседлился на коня, и конь сразу почувствовал под царскими доспехами, что это вовсе не итальянское из «Сомнамбулы», а именно тот Федор Иваныч, которым уши ему прожужжали, кормя.
Что дальше конь думал, я не сумею сказать – перед нами сразу же открылось зрелище, приковавшее все наше внимание, и дух замер: это была та минута, когда Шаляпин въехал на сцену и с коня пригнулся, уставясь на псковитянку.
Дирижер вскинул палочку, а, может, оттого, что Шаляпин чересчур порывисто пригнулся, конь, вопросительно поставя хвост (зверь не человек, аккуратный!) начал свою пирамидальную работу.
Все наши глаза и бинокли, не отрываясь, следили: как это производилось, – и с затаенным восхищением перед чистой работой. И у всех был один вопрос: когда – и кончится ли когда?
Наступила такая тишина, трудно себе вообразить: театр битком набит, и стоят и «зайцев» довольно.
Сам Костанов со своей магической палочкой так и замер. И оркестр – все скрипки вдруг отсмычились, а валторны и трубы отгуделись: ведь такое не только что не всякий день бывает, а в столетие однажды, да и то жди подходящий случай, чтобы «постарались».
У Шаляпина на заду глаз нет, он и не догадывается, какое за его спиной конское сооружение, Шаляпин верит в магию своих впечатлительных глаз и не сомневается, что все на него затаращились и потому такая тишина.
На сцене лишняя минута молчания – вечность. Прошло две вечности, Шаляпин не вытерпел и, отворотя рожу от псковитянки, зверски глянул Костанову в палочку.
И палочка сама замахалась.
И в ответ ей дружно ударили смычки и загудели трубы.
А конь, с удовольствием, спокойно опустя хвост, взбодрился – царский конь! – и, играя, пошел – как пошел, в молодые годы и под Сомнамбулой так не хаживал – гром аплодисментов!!!
Шаляпин ни до, ни потом – не слыхал и никогда не услышит такой взрыв восторга, как в этот памятный вечер. Только не любил он вспоминать «Псковитянку».
6 М. М. Пришвин*
«Я счастлив, что живу с вами на одной планете!» Это обращение Горького к Пришвину при первой встрече. В этих немудреных словах перелив чувств и кипь растроганного сердца, сказавшаяся в несуразной астрономической «планете». А как не восчувствовать и не полюбить Пришвина и всякому, для кого дороги и близки эти кусты, пеньки, ямки, овражки, логи, кочки, хохолки – вся необъятная, бедноватая, в чем-то печальная русская природа. Пришвин нашел для нее слово – гремящее, как лесной ключ, сверкающее, как озимые росы. Повторяя за ним это слово, видишь и чувствуешь живую русскую землю.
Но пространства России не Москвой сошлись: на север она за полюс, где в зимнюю бесконечную ночь костры зажигают там, за облаками, и небо полыхает в переливных, осыпающихся на землю огнях; на юг она за белоснежный Эльбрус с памятью Арарата и проклятого жадными богами огненного Прометея1; на восток она через верблюжьи киргизские степи со звездами-птицами до серебряного волшебного Алтая и по Китайской стене вдоль Сибири до Великого океана, царства оленей, рек – как моря́, и чародейского шаманского бубна.
И на всех этих пространствах – на тысячи тысяч верст – ступила нога русского – и уж он не Пришвин, русский, а «Черный Араб»2, загадочный и ни-на-что-не-похожий, а там, у Даурских гор, он превратится в Белого Китайца. И всюду будет желанный гость.