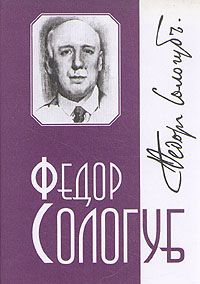Федор Сологуб - Том 3. Слаще яда
Шаня торопилась переехать. С утра она отправлялась в магазины, покупала мебель и разные вещи, выбирала обои, раза по два в день заезжала на свою квартиру посмотреть, как там красят, оклеивают, моют, вешают гардины и портьеры.
Наконец квартира была готова. Шаня наняла горничную и кухарку, перевезла от дяди Жглова свои чемоданы и картонки и принялась окончательно устраивать свою новую квартиру.
Шаня была в большом восторге от того, что у нее первый раз своя собственная квартира, – уют, красивые, светлые обои, цветы, в саду беседка, качели, аллейки веселых кленов, березок и боярышника, несколько груш, рябин, за садом огород. И опять пахнет не городскою пылью и не асфальтами тротуаров, а вечно милою землею и осенними умильными листьями. А если пройти через огород, открыть калитку, по шаткому мостику перейти через речку, – да ее и вброд легко перейти, – и входишь в пригородный бор, задумчивый и чистый. А когда Евгений первый раз пришел к Шане, то ему все не нравилось. Он придирчиво порицал все то, что считал признаком мещанства, в обстановке Шаниной квартиры. Он ворчал:
– Придумала, где нанять! Какая-то трущоба! Ни один порядочный человек в таких местах жить не станет.
– А мне нравится, – говорила Шаня, – много простора и света, и тихо.
– Ход со двора, – ворчал Евгений.
– Двор чистый, – возражала Шаня.
Все-таки Евгений стал приводить к Шане своих товарищей. Шане эти молодые люди не нравились. Они были очень развязны, смотрели на Шаню неприятно-ласковыми глазами и говорили ей преувеличенные комплименты.
Юлия ходила к Шане часто. Привела и своего провизора. Оказалось, что он похож на музыканта и обладает блистательными зубами, нежною душою и роскошною шевелюрою.
Стали приходить к Шане на эту квартиру многие люди: студенты, курсистки, актеры, рабочие, сотрудники газет, музыканты, адвокаты, врачи, – все больше молодежь.
И Аполлинарий Григорьевич посетил Шаню на новоселье. Он принес ей конфекты и цветы. Вел себя очень просто и дружески. Шаня была совсем очарована им.
Аполлинарий Григорьевич льстил Шане:
– Молодец барышня! Люблю таких! Что долго думать, – ломи напролом!
Шаня весело смеялась.
Аполлинарий Григорьевич расхвалил Шане ее квартиру. Так искренно говорил, что она верила. Он даже надавал ей разных советов в расчете, что Шаня перещеголяет в мещанстве себя самое. Советовал ей положить плетеные матики на пол, завести канареечку, купить и поставить на окна бальзамины, герани, латании, фуксии и другие растения, которые он считал мещанскими, как будто бы и невинные Божьи цветики делятся по сословиям. Красные занавесочки советовал повесить к окнам. Говорил:
– Отчего же у вас нет полога у кровати?
– Да он мне не нужен, – отвечала Шаня. Аполлинарий Григорьевич настаивал:
– У кровати должен быть полог, и непременно ситцевый, яркого цвета, с крупными розами.
– Зачем же так ярко? – спросила Шаня.
– Люблю яркие цвета, – говорил Аполлинарий Григорьевич. – Ну их, эти линялые тона!
Он прочел стихи Полонского. С особенным чувством продекламировал:
Полинял яркий полога цвет,
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому, – милого нет…
Шане стихи понравились, – сентиментальные стихи она всегда выискивала, и это стихотворение ей было издавна памятно. А советам она не верила и только из вежливости не спорила. Только раз сказала:
– Это Евгению не понравится.
Впрочем, не приписывала этих советов злому умыслу. Уже привыкла видеть, что хороший вкус – большая редкость.
Кое-какими фразами и словечками, бросаемыми вскользь, Аполлинарий Григорьевич наводил на Шаню грусть. Он говорил:
– Мать горюет. Глупая баба, да что поделаешь, – мать!
– Да о чем же ей горевать? – спрашивала Шаня. – Ведь я – не прилипчивая болезнь, что меня бояться надобно.
Аполлинарий Григорьевич пожимал плечьми и говорил:
– Да, вот поговорите с нею! Она никогда не примет в свою семью девушку не из нашего круга. Дворянская спесь, глупость, – что делать!
Он заводил разговор о другом и вдруг среди разговора вставлял какую-нибудь странную фразу. Он сказал:
– Характер у Евгения непостоянный. Сегодня ему одно нравится, завтра другое. За Катею ухаживал, а теперь и говорить с нею не хочет.
И Аполлинарий Григорьевич смотрел на Шаню внимательно, с соболезнующим, значительным выражением.
– Однако сколько лет меня любит! – возражала Шаня.
Аполлинарий Григорьевич промолчал, опять завел речь о другом и вдруг принялся расхваливать Евгения:
– Золотое сердце! Благородная душа. Он так горячо любит мать. Ни за что не захочет ее огорчить.
Все это бросалось как будто бы вскользь, с грустным видом.
Глава пятьдесят первая
Аполлинарий Григорьевич сказал Евгению:
– Был я у твоей Шанечки на новоселье.
И принялся посмеиваться над мещанскими подробностями Шанина жилища.
Евгений говорил, волнуясь:
– Я ее перевоспитаю. Вот вы увидите, дядя, из Шани выйдет вполне приличная дама. Конечно, я не могу скрывать от себя, что это трудно.
– Не легко, – согласился Аполлинарий Григорьевич.
– Но согласитесь, дядя, – почти просительным тоном говорил Евгений, – у Шани преобладают хорошие задатки.
– И я то же говорю, – опять поддакивал Аполлинарий Григорьевич.
– Это, право, золото, хотя еще и необработанное, – продолжал Евгений.
И Аполлинарий Григорьевич вторил ему:
– Вот, именно, настоящее слово, золото. Самородок. Одно имя чего стоит! Необычайно оригинально!
Ус его шевелился иронически. Но Евгений не замечал насмешки и продолжал разглагольствовать:
– Если вставить Шаню в настоящую, достойную ее оправу, – да она затмит всех наших барынь. Она дьявольски умна, почти как мужчина.
Аполлинарий Григорьевич глянул на Евгения пытливо, усмехнулся испросил:
– Послушай, Евгений, да ты уважаешь ли ее?
– Я ее люблю! – резко и неожиданно для себя громко крикнул Евгений.
– Любят только любовниц, – насмешливо сказал Аполлинарий Григорьевич.
Евгений сказал внушительно:
– Она – моя невеста!
Аполлинарий Григорьевич пожал плечьми и сказал снисходительно-уступающим голосом:
– Невеста, если хочешь. Но невеста – будущая жена, а жену надо не только любить, но и уважать. Уважать в ней носительницу своего имени, особу, к которой и ты сам, и общество предъявляет очень высокие требования. Скажи откровенно, ты уважаешь ее?
Евгений тихо сказал:
– Шаня – еще дитя. Кто же уважает детей!
– Но и к детям, – возражал Аполлинарий Григорьевич, – мы относимся сообразно их общественному положению. Маленькая крестьяночка может быть очень мила, я не спорю, – если ты захочешь ее приласкать, ты погладишь ее по головке, хотя в интересах опрятности лучше этого не делать. Малютка-принцесса – такой же ребенок, капризничает и шалит, но ты уважаешь ее высокий сан. Ты счастлив, если она даст тебе поцеловать ручку. Кухаркину сыну ты кричишь: «Васька, балбес, не смей это делать, уши надеру!» Сорванцу гимназисту, Сереже Рябову, ты в соответствующем случае скажешь: «Сережа, перестаньте дурачиться: пошалили, да и будет». Ты его уважаешь, хоть он и мальчишка, шалун, грубиян и дурак. Уважаешь потому, что он сын богатого, влиятельного в городе человека. А умника Васю ты не уважаешь, не потому, что он – мальчишка и шалун, а потому, что он – кухаркин сын. Он – тот сверчок, который должен знать свой шесток. Так-то, Женечка, не мешало бы и всякому сверчку знать свое место.
Евгений досадливо и неопределенно мычал.
У Хмаровых обедали кое-кто из родных и близких знакомых: На-гольские, Аполлинарий Григорьевич с женою и сыном, Леснов. Опять, досадуя Евгения, зашел разговор о Шаниной квартире. Аполлинарий Григорьевич подсмеивался над мещанскою обстановкою Шанина дома. Говорил:
– Очень стильно!
– Воображаю! – восклицала Софья Яковлевна. Аполлинарий Григорьевич продолжал:
– Строго выдержано в стиле мещанской квартирки. Совершенно художественный вкус. Все до последних мелочей.
И как будто бы сочувствовал, – и слышна сразу насмешка. Евгению было досадно, – но приходилось молча сносить, чтобы не стать в глупое, смешное положение. Да и что скажешь? Аполлинарий Григорьевич сам спорил со всеми за Евгения.
Евгений бесился и не знал, что ему говорить.
Мария злорадствовала. Алексей хихикал, дразнил. Нагольский нагло смеялся. Юлия Аполлинариевна делала преувеличенно-глупое лицо и спрашивала:
– Но у нее на лестнице есть швейцар?
Положение Евгения было бы нестерпимо. Но, по приятному светскому обыкновению, разговор не должен был долго держаться на одном предмете, – надобно было легко и приятно поговорить о множестве предметов.