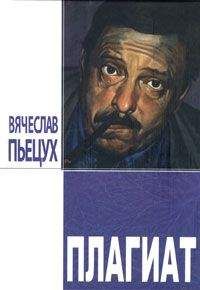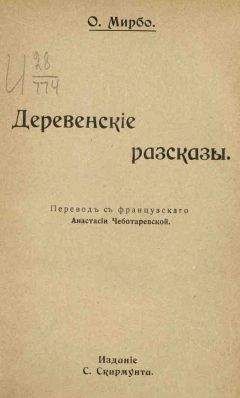Леонид Андреев - Оригинальный человек и другие рассказы
– Незачем фонари. А вот ты скажи…
Оба они стояли неподвижно, и шороха шагов не слышно было, и всеобъемлющая пустота царила безраздельно и властно.
– Ну что? – нетерпеливо спросил Алексей Петрович.
– Говорит тебе что-нибудь эта темнота?
«Опять фантазии», – подумал офицер и наставительно заметил:
– Она говорит, что тебе одному здесь не следует ходить. За любым деревом может кто-нибудь сидеть и подстерегать.
– Подстерегать! Вот и мне она говорит то же. Вообрази, что здесь за каждым деревом сидят люди – невидимые люди – и подстерегают. Их много – сорок семь, сколько было убитых, – и они сидят, слушают, что я говорю, и подстерегают.
Офицеру стало неприятно. Он оглянулся кругом, ничего не увидел, кроме мрака, и сделал шаг, чтобы идти.
– Охота себя расстраивать! – недовольно заметил он.
– Нет, погоди! – И от легкого прикосновения пальцев офицер вздрогнул. – Вообрази, что и там, в городе, и везде, куда бы я ни пошел, меня подстерегают. Иду я, идет какой-то человек и меня подстерегает. Или сажусь я в коляску, а мимо проходит человек и кланяется – он меня подстерегает.
Тьма становилась зловещей, и голос, когда не видно было человека, звучал странно и чуждо.
– Довольно, папа, идем!
Офицер быстро, не ожидая отца, зашагал.
– Вот то-то! – с неожиданной шутливостью сказал Петр Ильич знакомым басом. – А ты не веришь мне. Я тебе говорю – вот она, во лбу.
Когда блеснул свет из окна, он показался так далек и недоступен, что офицеру захотелось побежать к нему. Впервые он нашел изъян в своей храбрости и мелькнуло что-то вроде легкого чувства уважения к отцу, который так свободно и легко обращался с темнотой. Но и страх и уважение исчезли, как только попал он в освещенные керосином комнаты, и было только досадно на отца, который не слушается голоса благоразумия и из старческого упрямства отказывается от казаков.
IVЗимою и летом губернатор вставал в семь часов, обливался холодной водой, пил молоко и затем во всякую погоду совершал двухчасовую пешую прогулку. Еще в молодости он бросил курить, почти ничего не пил и при своих пятидесяти шести годах и седой голове был юношески здоров и свеж. Зубы у него были крепкие, ровные, только слегка желтоватые, как у старой лошади, глаза слегка подпухшие, но блестящие, и большой стариковски мясистый нос с красною вдавленною полоскою от очков. Пенсне он не носил, а когда писал или читал, надевал золотые, сильно увеличивающие очки.
На даче он много возился с землей. Цветов и всей садовой искусственной красоты он не любил, но устроил хорошие парники и даже оранжерею, где выращивал персики. Но со дня события он только раз заглянул в оранжерею и поспешно ушел – было что-то милое, близкое в распаренном влажном воздухе и оттого особенно больное. И большую часть дня, когда не ездил в город, проводил в аллеях огромного, в пятнадцать десятин парка, меряя их прямыми, твердыми шагами.
Размышлять он не умел. Мыслей к нему приходило много, и иногда очень живых и интересных, но не сплетались они в одну крепкую, длинную нить, а бродили в голове, словно коровы без пастуха. И случалось, что по целым часам шагал он, глубоко и сурово задумавшись, ничего вокруг не видя и не слыша – и потом не мог вспомнить, о чем думал. Вставали глухие намеки на какую-то большую, важную, иногда печальную, иногда веселую работу души, но в чем она заключалась, он узнать не мог. И только менявшееся настроение, то угрюмое, всему враждебное, то веселое, приятное, нежное, ищущее ласки, позволяло догадываться о характере этой сокровенной, загадочной работы где-то в недоступных глубинах мозга. После события обычное настроение – каковы бы ни были явные мысли – оставалось неизменно печальным, сурово безнадежным; и каждый раз, очнувшись от глубокой думы, он чувствовал так, как будто пережил он в эти часы бесконечно долгую и бесконечно черную ночь. Однажды в молодости он утопал в быстрой и глубокой реке; и долго потом он сохранял в душе бесформенный образ удушающего мрака, бессилия и втягивающей в себя, засасывающей глубины. И теперь было что-то похожее.
Через два дня после отъезда сына, в солнечное, безветренное утро он также ходил по аллее и думал. С аллеи уже успели смести напавший за ночь желтый лист, и на бороздках от метлы отчетливо ложились следы больших ног, с высоким каблуком и широкой четырехугольной подошвой – вдавленные следы, точно к тяжести человека прибавилась тяжесть его мыслей и вдавливала его в землю. Минутами он останавливался, и тогда где-то над головой в путанице освещенных солнцем ветвей слышался отчетливый рабочий стук дятла. Раз в одну из остановок аллею перебежала белка, точно красноватый комок на колесиках перекатился с одного дерева на другое.
«Убьют меня, наверное, из револьвера, теперь есть хорошие револьверы, – думал он. – А бомб в нашем городишке и делать не умеют, да и вообще бомбы для государственных деятелей, которые прячутся. Вот Алешу, когда он будет губернатором, убьют бомбой, – придумал Петр Ильич, и левый ус его приподнялся легкой насмешливой улыбкой, хотя глаза оставались по-прежнему хмуры и серьезны. – А прятаться не стану, нет, довольно уже того, что я сделал».
Он остановился и снял с тужурки паутинку.
«Жаль только, что никто не узнает вот этих моих честных и храбрых мыслей. Все другое знают, а это так и останется. Убьют, как негодяя. Очень жаль, но ничего не поделаешь. И говорить не стану. Зачем разжалобливать судью? Судью разжалобливать нечестно. Ему и так трудно, а тут еще перед ним будут хныкать: я честный, честный».
Он впервые подумал о каком-то судье и удивился, откуда его взял, и, главное, взял так, как будто это вопрос давно уже решенный. Словно он уже крепко спал, и во сне кто-то разъяснил ему все, что нужно, про судью и убедил его; потом он проснулся, сон позабыл, объяснения позабыл, а знает только, что есть судья, вполне законный судья, облеченный огромными и грозными полномочиями. И теперь, после минутного удивления, он принял этого неведомого судью спокойно и просто, как встречают хорошего и старого знакомого.
«Вот Алеша этого не понимает. По его – все государственная необходимость. Только какая же это государственная необходимость – стрелять в голодных. Государственная необходимость – кормить голодных, а не стрелять. Молод он еще, глуп, увлекается».
И вдруг, еще не закончив этой самодовольной мысли, он понял, что ведь это не Алеша стрелял, а он. И точно раскалился воздух и захватил дыхание, и одно огромное, чудовищно жестокое, бессмысленное:
– Поздно!
Он не знал, была ли это мысль, или чувство, или он вслух произнес его, как слово; оно прозвучало громко и отовсюду и удалилось быстро, как удар грома над головой. И наступили долгие минуты путаницы мыслей, их поспешного, разрозненного бегства, болючих столкновений – и мертвенное спокойствие, почти отдых.
Блеснули на солнце, сквозь деревья, стекла оранжереи, треугольник белой стены, как кровью окрапленный красными листьями дикого винограда; и, подчиняясь привычке, губернатор пробрался по тропинке между опустошенных уже парников и вошел в оранжерею. Там был рабочий Егор, старик.
– А садовника нет?
– Нету, ваше превосходительство. В город уехал, за прививками – нынче пятница.
– Ага! Хорошо идет все?
– Слава богу.
Стекла были только что подняты, и свободные лучи солнца заливали оранжерею, выгоняя из нее душную, тяжелую влагу; и чувствовалось, как горячо солнце, как оно сильно, как оно ласково и добро. Губернатор сел, сверкая на солнце огоньками пуговиц, распахнул тужурку и внимательно взглянул на Егора.
– Ну как, брат Егор?
Старик вежливо улыбнулся на ласковый, но неопределенный вопрос; он стоял свободно, руки его были в свежей земле, и тихонько он потирал их одна о другую.
– Слышал я, Егор, будто хотят меня убить. За рабочих, знаешь, тогда…
Егор все так же вежливо улыбался, но перестал потирать руки – спрятал их за спину и молчал.
– Так как же думаешь, старик, убьют или нет? Ты грамотный? Да говори, чего там, наше дело стариковское.
Егор мотнул головой, рассыпав по лбу сизые курчавые волосы, поглядел на губернатора и ответил:
– Кто их знает. Пожалуй что убьют, Петр Ильич.
– А кто же убьет-то?
– Да народ! Общество – по-нашему, по-деревенскому.
– А садовник что говорит?
– Не знаю, Петр Ильич, не слыхал.
Оба вздохнули.
– Плохо, значит, дело, старик? Ты бы сел.
Но Егор не обратил внимания на предложение и молчал.
– А я так думал, что надо, то есть, стрелять. Бросают камни, ругаются, чуть в меня не попали…
– От тоски это. Намедни на базаре один пьяный, мастеровой, что ли, кто его знает, плакал-плакал, а потом поднял каменюгу, да как бацнет. От тоски это, не иначе как.
– Убьют, а потом сами пожалеют, – задумчиво сказал губернатор, представляя себе лицо сына Алексея Петровича.
– Пожалеют, это верно. Да еще как и пожалеют-то: горькие слезы прольют.