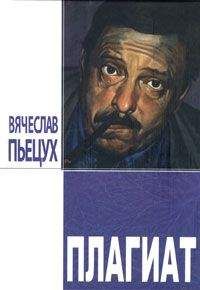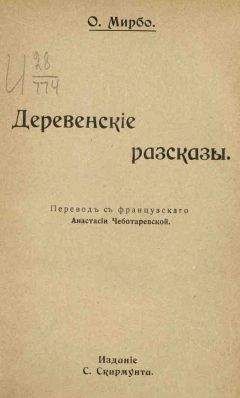Леонид Андреев - Оригинальный человек и другие рассказы
– Убьют, а потом сами пожалеют, – задумчиво сказал губернатор, представляя себе лицо сына Алексея Петровича.
– Пожалеют, это верно. Да еще как и пожалеют-то: горькие слезы прольют.
Вспыхнула надежда:
– Так зачем же тогда убивать? Ведь это же вздор, старик!
Взор рабочего быстро ушел в какую-то неизмеримую глубину, оделся мглою, словно затвердел. И весь он на мгновенье показался высеченным из камня; и мягкость складок кумачовой заношенной рубахи, и пушистость волос, и эти руки, испачканные землею и совсем как живые, – все это было словно обман со стороны безмерно талантливого художника, облекшего твердый камень видом пушистых и легких тканей.
– Кто их знает, – ответил Егор, не глядя. – Народ, стало быть, желает. Да вы не задумывайтесь, ваше превосходительство, мало ли болтают зря. Поговорят-поговорят, а там и сами забудут.
Надежда погасла. Ничего нового и особенно умного Егор не сказал; но была в его словах страшная убедительность, как в тех полуснах, что грезились губернатору в его долгие одинокие прогулки. Одна фраза: «Народ желает» – очень точно выразила то, что чувствовал сам Петр Ильич, и была особенно убедительной, неопровержимой; но, быть может, даже не в словах Егора была эта странная убедительность, а во взгляде, в завитках сизых волос, в широких, как лопаты, руках, покрытых свежею землею.
А солнце светило.
– Ну, прощай, Егор. Дети есть?
– Будьте здоровы, Петр Ильич.
Губернатор застегнулся наглухо, выправил плечи и достал из кармана серебряный рубль.
– На-ка, старик, купишь там себе чего-нибудь.
Егор протянул дощатую ладонь, с которой монета должна была, казалось, скатиться, как с крыши, и поблагодарил.
«Странные эти люди, – подумал губернатор, рассекая блики и тени пронизанной солнцем аллеи и сам дробясь на светлые и темные кусочки. – Очень странные люди: у них нет обручальных колец, и никогда не поймешь, – женат он или холост. Впрочем, нет, есть кольца: серебряные. Или даже оловянные. Как это странно: оловянные. Человек женится и не может купить золотого кольца в три рубля. Какая бедность. Я не посмотрел: у них в сарае тоже были, вероятно, оловянные кольца. Оловянные с тоненьким пояском посередине, теперь я помню».
Все ниже и ниже, кружась, как ястреб над замеченным кустом, и суживая круги, опускалась мысль в глубину; и солнце погасло, и исчезла аллея – стукнул дятел, лист проплыл, и исчезло все; и сам он словно утонул в одном из своих жутких и мучительных полуснов.
Рабочий. Лицо у него молодое, красивое, но под глазами во всех углублениях и морщинках чернеет въевшаяся металлическая пыль, точно заранее намечая череп; рот открыт широко и страшно – он кричит. Что-то кричит. Рубаха у него разорвалась на груди, и он рвет ее дальше, легко, без треска, как мягкую бумагу, и обнажает грудь. Грудь белая, и половина шеи белая, а с половины к лицу она темная – как будто туловище у него общее со всеми людьми, а голова наставлена другая, откуда-то со стороны.
– Зачем ты рвешь рубашку? На твое тело неприятно смотреть.
Но белая обнаженная грудь слепо лезет на него.
– На, возьми! Вот она! А правду отдай. Правду отдай.
– Но где же я возьму правду? Какой ты странный.
Женщина говорит:
– Детки все перемерли. Детки все перемерли. Детки-детки-детки все перемерли.
– Оттого так и пусто у вас на улице.
– Детки-детки-детки все перемерли. Детки.
– Но этого не может быть, чтобы ребенок умер от голода. Ребенок, маленький человек, который сам не умеет открыть дверей. Вы не любите своих детей. Если бы у меня ребенок был голоден, я накормил бы его. Да, но ведь у вас оловянные кольца.
– На нас железные кольца. Тело сковано, душа скована. На нас железные кольца.
На черном крыльце, в тени, горничная чистит платье Марьи Петровны; окна кухни открыты, и за ними мелькает повар в белом. Пахнет помоями, грязно.
«Куда я пришел! – удивляется губернатор. – Ведь это кухня! О чем я думал? Вот о чем: нужно посмотреть час, чтобы узнать, скоро ли будет завтрак. Еще рано, десять. Им, однако, неловко, что я сюда пришел. Нужно уходить».
И еще долго ходил он по аллеям и все думал. И в том, как он думал, был похож на человека, переходящего вброд широкую и незнакомую реку; то идет он по колено, то надолго исчезает под водою и возвращается оттуда бледный, полузадохшийся. Думал он о сыне Алексее Петровиче, пробовал думать о службе, о делах, но отовсюду, где бы его мысль ни начиналась, она незаметно прибегала к событию, роясь в нем, как в неистощимом руднике. И даже странно было, о чем он мог думать раньше – до несчастья; все помимо его казалось таким пустым, ничтожным, совершенно неспособным вызвать мысль.
Зензивеевских крестьян он выпорол около пяти лет тому назад, на второй год своего губернаторства, и тоже тогда получил одобрение от министра; и с этого, собственно, случая началась быстрая и блестящая карьера Алексея Петровича, на которого обратили тогда внимание, как на сына очень энергичного и распорядительного человека. Он смутно, за давностью времени, помнит, что мужики насильственно забрали у помещика какой-то хлеб, а он приехал с солдатами и полицией и отобрал хлеб у мужиков. Не было ничего ни страшного, ни угрожающего – скорее что-то нелепо-веселое. Солдаты тащили мешки с зерном, а мужики ложились грудью на эти самые мешки и волоклись вместе с ними под шутки и смех развеселившихся полицейских и солдат. Потом они вскрикивали, дико взмахивали руками и, словно слепые, тыкались в загорожи, в стены, в солдат. Один мужик, оторванный от мешка, молча, трясущимися руками шарил по траве, разыскивая камень, чтобы бросить. На версту кругом нельзя было найти ни одного камня, а он все шарил, и, по знаку исправника, полицейский презрительно толкнул его коленом в приподнятый зад, так что он стал на четвереньки и так, на четвереньках, куда-то пополз. И как будто все они, и этот мужик и другие, были сделаны из дерева – так тяжелы, чуть ли не скрипучи были они в своих движениях: чтобы повернуть мужика лицом, куда надо, его ворочали двое. И уже став, как следует, он все еще не догадывался, куда надо смотреть, а когда находил, то уже не мог оторваться, и опять двое людей с усилием поворачивали его.
– Ну-ка, дядя, скидавай портки. Купаться будешь.
– Чего? – недоумевал мужик, хотя дело было ясно.
Чужая рука расстегивала единственную пуговицу, портки спадали, и мужицкая тощая задница бесстыдно выходила на свет. Пороли легко, единственно для острастки, и настроение было смешливое. Уходя, солдаты затянули лихую песню, и те, что ближе были к телегам с арестованными мужиками, подмаргивали им. Было это осенью, и тучи низко ползли над черным жнивьем. И все они ушли в город, к свету, а деревня осталась все там же, под низким небом, среди темных, размытых, глинистых полей с коротким и редким жнивьем.
– Детки все перемерли. Детки-детки все перемерли. Детки.
Ударили в гонг к завтраку. Быстрые веселые удары звонко разнеслись по парку. Губернатор резко повернулся назад, строго взглянул на часы – было без десяти минут двенадцать. Спрятал часы и остановился.
– Позорно! – гулко и гневно произнес он, скривив рот. – Позорно. Боюсь, что я негодяй.
После завтрака он разбирал в кабинете доставленную из города корреспонденцию. Хмуро и рассеянно, поблескивая очками, он разбирал конверты, одни откладывая в сторону, другие обрезая ножницами и невнимательно прочитывая. Одно письмо в узком конверте из дешевой тонкой бумаги, сплошь залепленное копеечными желтыми марками, подвернулось под руку и, как другие, было тщательно обрезано по краю. Отложив конверт, он развернул тонкий, промокший от чернил лист и прочел:
«Убийца детей».
Все белее и белее становится лицо; вот оно почти такое же белое, как волосы. И расширенный зрачок сквозь толстые выпуклые стекла видит:
«Убийца детей».
Буквы огромны, кривы и остры и страшно черны; и они колышутся на лохматой, как дерюга, бумаге:
«Убийца детей».
VУже на следующее утро после убийства рабочих весь город, проснувшись, знал, что губернатор будет убит. Никто еще не говорил, а все уже знали: как будто в эту ночь, когда живые тревожно спали, а убитые все в том же удивительном порядке, ногою к ноге, спокойно лежали в пожарном сарае, над городом пронесся кто-то темный и весь его осенил своими черными крыльями.
И когда люди заговорили об убийстве губернатора, одни раньше, другие – сдержанные – позже, то как о вещи уже давно и бесповоротно кем-то решенной. И одни, очень многие, говорили равнодушно, как о деле, их не касающемся, как о солнечном затмении, которое будет видимо только на другой стороне земли и интересно только жителям той стороны; другие, меньшинство, волновались и спорили о том, заслуживает ли губернатор такого жестокого наказания, и есть ли смысл в убийстве отдельных лиц, хотя бы и очень вредных, когда общий уклад жизни остается неизменным. Мнения разделялись; но в спорах, самых непримиримых, не было особенной горячности: как будто речь шла не о событии, которое еще только может совершиться, а о факте случившемся, в котором никакие взгляды ничего изменить не могут. И у людей образованных спор вследствие этого очень быстро переходил на широкую теоретическую почву, а о самом губернаторе они забывали, как о мертвом.