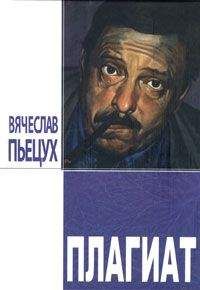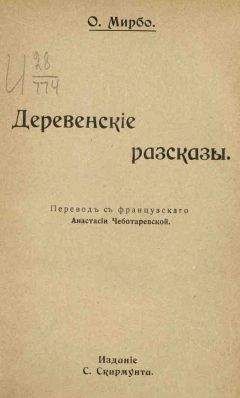Леонид Андреев - Оригинальный человек и другие рассказы
– Никак нет, ваше превосходительство.
– Когда приедет, проси сюда.
По-видимому, зала оклеивалась при старом губернаторе, а быть может, и еще раньше – так грязны и закопчены были дорогие тисненые обои; и от медных отдушников в замаскированной обоями печи тянулись черно-желтые потоки, как из неаккуратного старческого рта. Зимою, при народе, при вечернем освещении все это не замечалось, а теперь лезло в глаза своим нарядным убожеством и мутило. Вот картина: какой-то итальянский лунный пейзаж – висит он криво, и никто этого не замечает, и кажется, что всегда висел он так, и при старом губернаторе, и при том, который был еще раньше. Мебель тоже дорогая, но просиженная, потертая, пропитанная пылью, – похоже вообще на номер в дорогой гостинице, где сам хозяин давно умер от удара, а дело ведут неряшливые, вечно ссорящиеся между собою наследники. И ничего не было своего: даже альбом с карточками был чужой, казенный или кем-то здесь позабытый: вместо лиц друзей и близких шли виды города – семинария и окружной суд, – четыре незнакомые чиновника, два сидят и два стоят над ними – какой-то выцветший архиерей – и круглая дыра до самого переплета.
– Какая мерзость! – громко сказал губернатор и брезгливо бросил альбом.
Рассматривал карточки он стоя и, повернувшись на каблуках, дернув погоном, сердито зашагал прямыми твердыми шагами: «Так ходят губернаторы. Так – ходят – губернаторы».
Так ходил по этой казенной квартире и прежний губернатор, и тот, что был до него, и другие, неизвестные. Откуда-то являлись, ходили твердыми и прямыми шагами, а над ними боком висел итальянский пейзаж, устраивали приемы, даже танцы, а потом куда-то исчезали. Быть может, тоже в кого-нибудь стреляли – что-то в этом роде было при третьем до него губернаторе.
По безлюдной площади прошел маляр, весь измазанный краской, с ведром и кистью – и опять никого. С ободранного тополя внезапно оторвался желтый дырявый лист и, кружась, поплыл книзу – и сразу вихрем в голове закружились: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Встают ненужные подробности: как он приготовлял платок для сигнала. Он заранее вынул его из кармана и, зажав в маленький твердый комок, держал в правой руке; потом осторожно расправил его и быстро махнул, но не вверх, а вперед, словно бросал что. Словно бросал пули. И вот тут он перешагнул через что-то, через какой-то высокий, невидимый порог, и железная дверь с громким скрипом железных петель захлопнулась сзади – и нет возврата.
– Ах, это вы, Лев Андреевич! Наконец-то, я вас заждался.
– Простите, Петр Ильич, но в этом дрянном городишке ничего не достанешь.
– Ну, едем, едем. Да, послушайте! – Губернатор остановился и раздраженно, сделав рот трубой, заговорил. – Почему это во всех наших присутственных местах такая грязь? Возьмите нашу канцелярию. Или был как-то я в жандармском управлении – так ведь это что же такое! Ведь это же кабак, конюшня. Сидят люди в чистых мундирах, а кругом на аршин грязи.
– Денег нет.
– Вздор! Отговорки! А это, – губернатор широко обвел рукою, – вы взгляните, что же это такое. Это же мерзость.
– Петр Ильич! Да кто же вам мешает переделать по-своему. Ведь уж сколько раз я предлагал это Марии Петровне, и ее превосходительство вполне разделяет…
Уже на ходу губернатор отрывисто бросил:
– Не стоит.
Чиновник сочувственно взглянул на его широкую спину, жилистую шею, двумя колонками подпирающую череп, и, вкладывая в голос беззаботность, сказал:
– Да, кстати. Встретил сейчас Судака, говорит, что вчера последнего раненого выписали. Самого тяжелого, почти никакой надежды не было, что поправится. Удивительно живучий народ.
Судаком в губернаторском домашнем кругу назывался полицеймейстер – за свои вытаращенные бесцветные глаза, длинный рост и узкую рыбью спину.
Губернатор не ответил. На подъезде его сразу охватило осенней свежестью и солнечным теплом – как будто существовали они отдельно, и свежесть и тепло, и чувствовались также порознь. И небо было милое: нежное, далекое, неожиданное и прелестно голубое. Хорошо теперь на даче!
Он уже сидел в коляске, сторонясь, чтобы дать место влезавшему с левой стороны чиновнику, когда мимо подъезда, согнувшись, прошел какой-то человек. Снимая для поклона картуз, он закрыл локтем лицо, и губернатор увидел только его курчавый, белокурый затылок и загорелую, молодую шею и заметил, что шагает он осторожно и неслышно, как босой, шагает и горбится и прячется в себя и спина его словно смотрит назад. «Какой неприятный и странный человек», – подумал губернатор. То же подумали, видимо, два господина, поспешно усаживавшиеся впереди коляски на извозчика: привычным и согласным движением они заглянули прохожему в лицо, ничего подозрительного не нашли и понеслись впереди губернатора. Извозчик у них был лихач, на резинах, колеса подпрыгивали, и кузов пролетки колыхался, и сидели они наклонившись вперед, для быстроты, и скоро далеко ушли, чтобы не пылить губернатору.
– Кто эти двое? – спросил он чиновника, искоса подозрительно глядя на него, и тот равнодушно ответил:
– Агенты.
– А зачем это? – так же отрывисто спросил губернатор.
– Не знаю, – уклончиво ответил Лев Андреевич. – Судак все старается.
При повороте на Дворянскую улицу блеснул на солнце лаком сапог и молодцевато козырнул безусый помощник пристава, тот, что демонстрировал трупы, а когда проезжали мимо части, из раскрытых ворот вынеслись на лошадях два стражника и громко захлопали копытами по пыли. Лица у них были полны готовности, и смотрели они оба не отрываясь в спину губернатора. Чиновник сделал вид, что не заметил их, а губернатор хмуро взглянул на чиновника и задумался, сложив на коленях руки в белых перчатках.
Дорога на дачу шла через окраину города, по Канатной улице, где в полуразвалившихся лачугах и частью в двухэтажных кирпичных домах казенной стройки жили заводские с семьями и всякая городская беднота. Губернатору хотелось кому-нибудь ласково поклониться, но улица была пуста, как ночью, и даже не видно было детей. Один мальчишка мелькнул на заборе, в красных листьях рябины – и быстро скользнул вниз, за забор, притаившись, очевидно, у широкой щели. Летом попадались на Канатной куры и грязные поджарые поросята, привязанные к колышкам, но теперь не было и их, – очевидно, трехнедельная голодовка подобрала все. Непосредственно ничто не напоминало события, но в пустынности улицы, равнодушной к проезду губернатора, была тяжелая, сосредоточенная дума опущенных глаз, и в прозрачном воздухе чудился легкий запах ладана.
– Послушайте, – вскрикнул губернатор, хватая чиновника за колено. – Ведь этот человек…
– Какой человек?
Губернатор не ответил. Он крепко сжимал колено и всем лицом смотрел на чиновника – словно в запертом и заколоченном доме сразу распахнулись все двери и окна. Потом сдвинув брови в толстую, старчески мясистую складку, он медленно, всем широким туловищем обернулся назад и внимательно посмотрел на дорогу. Хлопали копытами по пыли стражники, и безлюдная, одной стороной утонувшая в черной тени, на другой ярко освещенная солнцем, таилась в глубокой думе улица. Сбежавшись в кучу, как испуганное грозою стадо, жались друг к другу домишки с дырявыми крышами, переломанными коньками, выпертыми вперед, как стариковские подбородки, окнами. Потом пустырь, остатки забора, забитый колодец, с опустившейся вокруг землею – и огромные липы за высокой полуразобранной огорожей, большой барский дом, какими-то судьбами попавший в это захолустье, давно уже не жилой, дряхлый, с закрытыми ставнями и заржавевшей от времени железной дощечкой: «Сей дом продается». Дальше опять домишки и три подряд голые, кирпичные корпуса без орнаментов, с редкими ввалившимися окнами. Они еще новы; видна засохшая известь, и не заделаны углубления, на которых держались подмостки, – но уже безнадежно грязны, запущены. На тюрьму они похожи, и жизнь в них должна быть такая же тоскливая, безнадежная, замкнутая, как в тюрьме.
Вот и выезд в поле и последний домишко – без одного деревца вокруг, без забора; весь он остро наклонился вперед, и стена и крыша, как будто кто сильною ладонью ударил его в спину, и ни в окнах, ни около – ни одного человека.
– А трудно будет вам, Петр Ильич, ездить здесь осенью. Здесь ведь, наверное, грязь невылазная.
Губернатор смотрел в сторону и молчал. И лицо его медленно закрывалось – как будто вновь по одному закрывали все окна и двери в глухом заколоченном доме.
IIIБыло много веселых игр, смеха и песен – на следующее утро уезжал в Петербург сын Петра Ильича, офицер, и знакомые собрались проводить его. На зеленых лужайках и прогалинах, под золотом и багрянцем листьев, в изумрудной прозрачности освещенных лесных далей, рассыпались такими же гармоничными и яркими пятнами красивые платья женщин и мундиры военных. Когда погасла кровавая, почти зимняя заря и по небу зачертили падающие звезды, пускали фейерверк – громко трескающиеся ракеты, огненные фонтаны, колеса. Удушливый дым ползал под старыми, строгими деревьями, и, когда зажгли красный бенгальский огонь, фигуры бегающих людей превратились в какие-то уродливые, судорожно мечущиеся тени.