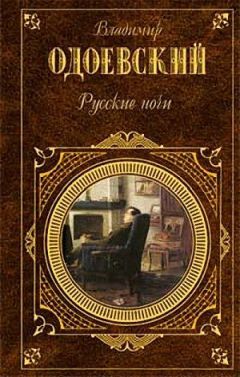Владимир Одоевский - Русские ночи
Примечание к «Русским ночам»*
Habent sua fata libelli![138] — пишущему и вообще действующему человеку не мудрено провиниться разными образами: между прочим, н<а>пр<имер>, выдать свою мысль за чужую, или, как на грех, чужую за свою. Но часто — как с Софьей Павловной:
— Бывает хуже — с рук сойдет,*
а вдруг, бог весть по каким сближениям, вас начинают обвинять или оправдывать именно в том, в чем вы ни душой, ни телом не виноваты. — Многие находили, иные в похвалу, другие в осуждение, что в «Русских ночах» я старался подражать Гофману. Это обвинение меня не слишком тревожит; еще не было на свете сочинителя от мала до велика, в котором бы волею или неволею не отозвались чужая мысль, чужое слово, чужой прием и проч. т. п.; это неизбежно уже по гармонической связи, естественно существующей между людьми всех эпох и всех народов; никакая мысль не родится без участия в этом зарождении другой предшествующей мысли, своей или чужой; иначе сочинитель должен бы отказаться от способности принимать впечатление прочитанного или виденного, т. е. отказаться от права чувствовать и, след<ственно>, жить. Разумеется, я не обижаюсь нисколько, когда сравнивают меня с Гофманом, — а, напротив, принимаю это сравнение за учтивость, ибо Гофман всегда останется в своем роде человеком гениальным, как Сервантес, как Стерн; и в моих словах нет преувеличения, если слово гениальность однозначительно с изобретательностию; Гофман же изобрел особого рода чудесное; знаю, что в наш век анализа и сомнения довольно опасно говорить о чудесном, но между тем этот элемент существует и поныне в искусстве; н<а>пр<имер>, Вагнер — тоже человек без всякого сомнения гениальный[139] — убежден, что опера почти невозможна без этого странного элемента, и музыканту нельзя не согласиться с таким убеждением; Гофман нашел единственную нить, посредством которой этот элемент может быть в наше время проведен в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую — действительную; так что гордый читатель XIX-го века нисколько не приглашается верить безусловно в чудесное происшествие, ему рассказываемое; в обстановке рассказа выставляется все то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, — таким образом, и волки сыты и овцы целы[140]; естественная наклонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа; помирить эти два противоположные элемента было делом истинного таланта.
А между тем я не подражал Гофману. Знаю, что самая форма «Русских ночей» напоминает форму Гофманова сочинения «Serapien's Briider»[141]. Также разговор между друзьями, также в разговор введены отдельные рассказы. Но дело в том, что в эпоху, когда мне задумались «Русские ночи», т. е. в двадцатых годах, «Serapien's Brtider» мне вовсе не были известны; кажется, тогда эта книга и не существовала в наших книжных лавках; единственное сочинение Гофмана, тогда мною прочитанное, было «Майорат», с которым у меня нигде, кажется, нет ни малейшего сходства.
Не только мой исходный пункт был другой, но и диалогическая форма пришла ко мне иным путем; частию по логическому выводу, частию по природному настроению духа, мне всегда казалось, что в новейших драматических сочинениях для театра или для чтения недостает того элемента, которого представителем у древних был — хор, и в котором большею частию выражались понятия самих зрителей. Действительно, странно высидеть перед сценою несколько часов, видеть людей говорящих, действующих — и не иметь права вымолвить своего слова, видеть, как на сцене обманывают, клевещут, грабят, убивают — и смотреть на все это безмолвно, склавши руки. Замкнутая объективность новейшего театра требует с нашей стороны особого жестокосердия; чувство, которое не позволяет нам оставаться равнодушными при виде таких происшествий в действительности, это прекрасное чувство явно оскорблено, и я совершенно понимаю Дон-Кихота, когда он с обнаженным мечом бросается на мавров кукольного театра, и того чудака наших театров, который, сидя в креслах, не мог утерпеть, чтобы не вмешаться в разговор актеров. Такими зрителями должен бы дорожить драматический писатель; они, без сомнения, одни вполне сочувствуют пиесе. Хор — в древнем театре давал хоть некоторый простор этому естественному влечению человека принимать личное участие в том, что пред ним происходит. — Конечно, перенести целиком древнюю форму хора в нашу новую драму есть дело невозможное, что доказывается и бывшими в этом роде попытками; но должен быть способ ввести в нашу немилосердую драму хоть какого-нибудь адвоката со стороны зрителей, или, лучше сказать, адвоката господствующих в тот момент времени понятий, словом то, что древние наши учители в деле искусства считали необходимою принадлежностию драмы. — Стоит найти. А найти необходимо, в наш век более нежели когда-нибудь; self government[142] ныне проникает во все движения мысли и чувства; a self government никак не ладнтся с этою браминскою неподвижностию, которая требуется от зрителя новейшею драмою; путь узок, как волос, как путь мусульманский, ведущий в жилище гурий; с одной стороны грозит лиризм и резонерство; с другой — холодная объективность. Может быть, когда-либо желаемая цель достигнется сопряжением двух разных драм, представленных в одно и то же время, между коими проведется, так сказать, нравственная связь, где одна будет служить дополнением другой, — словом, говоря философскими терминами, где идея представится не только с объективной, но и с субъективной стороны, следственно выразится вполне, следственно вполне удовлетворит нашему эстетическому чувству. Эта задача еще не решена; решить ее тем или другим путем, решить удачно — дело таланта; но задача существует.
Возвращаюсь к моему собственному защищению; касаясь психологического факта, оно может быть будет не без интереса для читателя. — В эпоху, о которой я говорю, я учился по-гречески и читал Платона, руководствуясь в трудных местах русским или, точнее сказать, славянорусским переводом Пахомова,* который в нашей словесности то же, что Амиотов перевод Плутарха* во французской. Платон произвел на меня глубокое впечатление, до сих пор сохранившееся, как всякое сильное впечатление юности. В Платоне я находил не один философский интерес; в его разговорах судьба той или другой идеи возбуждала во мне почти то же участие, что судьба того или другого человека в драме или в поэме; даже, в эту эпоху, судьба гомеровых героев гораздо менее интересовала меня; вообще ни Ахиллес, ни Одиссей тогда не привлекали моего особого сочувствия.
Продолжительное чтение Платона привело меня к мысли, что если задача жизни еще не решена человечеством, то потому только, что людп не вполне понимают друг друга, что язык наш не передает вполне наших идей, так что слушающий никогда не слышит всего того, что ему говорят, а или больше, или меньше, или влево, или вправо. Отсюда вытекало убеждение в необходимости и даже в возможности (I) привести все философские мнения к одному знаменателю. Юношеской самонадеянности представлялось доступным исследовать каждую философскую систему порознь (в виде философского словаря), выразить ее строгими, однажды навсегда принятыми, как в математике, формулами — и потом все эти системы свести в огромную драму, где бы действующими лицами были все философы мира от элеатов* до Шеллинга, — или, лучше сказать, их учения, — а предметом, или вернее основным анекдотом, была бы нп более ни менее как задача человеческой жизни.
Но в этом деле случилось то, что рассказывает Пушкин о помещике села Горохова,* который задумал написать поэму «Рурик», потом нашел нужным ограничиться одою, и кончил — надписью к портрету Рурика.
Мечта первой юности рушилась; труд был не по силам; на один философский словарь, как я понимал его, не достало бы человеческой жизни, а эта работа должна была быть лишь первой ступенькой для дальнейшей главной работы… что говорить далее, — дроби остались с разными знаменателями, как, может быть, и навсегда останутся, — по крайней мере не мне сделать это вычисление.
Но сопряжение всех этих предварительных работ и почти беспрестанная о них мысль невольно отразились во всем, что я писал, и в особенности в «Русских ночах», но в другой обстановке. Вместо Фалеса,* Платона и проч. на сцену явились современные тогда типы: кондиллькист,* шеллингианец и, наконец, мистик (Фауст), все трое — в струе русского духа! последний (Фауст) подсмеивается над тем и другим направлением, но и сам не высказывает своего решения, может быть, потому, что оно для него так же не существует, как для других, — но который удовлетворяется символизмом; впрочем, к Фаусту я обращусь впоследствии. Чтобы свести эти три направления к определенным точкам, избраны разные лица, которые целою своею жизнию выражали то, что у философов выражалось сжатыми формулами, — так что не словами только, но целою жизнию один отвечал на жизнь другого.