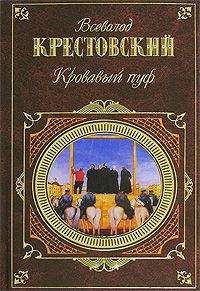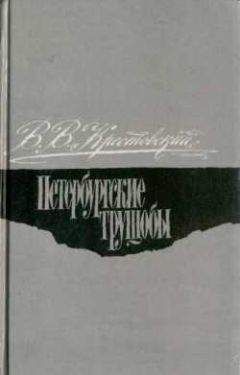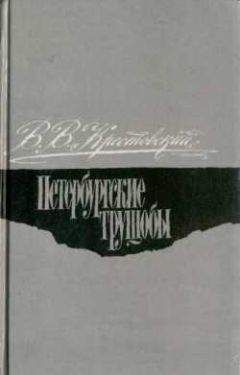Всеволод Крестовский - Кровавый пуф. Книга 2. Две силы
— Э, еще и не то бывает! Это что! — возразил Холодец, — это вот вам легенький образчик польской веротерпимости. А это еще какой поп-то, надо заметить: он, как говорят по крайней мере, совсем поляк в православной рясе; говорит не иначе, как по-польски, дружит с ксендзами, даже некоторых прихожан и исповедует-то на польском языке, а у себя в алтаре к пономарю обращается например: "Пане Яне! Прендзей кадзидло, прошен' пана!"[120] Вот это поп-то какой! Так им бы, казалось, лелеять бы только эдакого-то человека золотого, а вот нет же!.. Поди-ка ты! До такой степени сильна фанатическая ненависть к православной рясе, что даже польские его добродетели забываются!
— Чего же, наконец, полиция-то смотрит? — воскликнул вдруг наш революционер, и… увы! нимало не почувствовал в душе угрызения совести за столь ретроградное восклицание. — Ведь этак просто по улицам ходить невозможно!
— Полиция-то? — усмехнулся доктор. — А вон она!.. Видите, вон тут же на углу "пан стойковый" торчит себе для порядку да мило улыбается на милых шалунов. Тут, батюшка, и полиция-то вся, от старших до младших, все это полячки, из "добрых обывацелей"; полиция-то им и есть самый лучший друг и пособник.
Хвалынцев только плечами пожал от печально-досадного изумления.
— Послушайте! — сказал он после некоторого раздумья. — Ведь все эти штуки, это уж чисто социальная сторона дела, а в социальных вопросах правительство зачастую бывает бессильно; противодействовать этой пропаганде и вообще всем безобразиям, на мой взгляд, по крайней мере, должно бы было само здешнее русское общество. Это ведь уже чисто его вина.
Доктор в ответ на это засмеялся.
— Русское общество!.. "Здешнее русское общество", говорите вы? — воскликнул он. — Да где же оно прежде всего? У нас есть здесь польское и еврейское общество и, знаете ли, очень и очень-таки хорошо, плотно организованное; но русского общества нет да никогда не бывало.
— Как! позвольте! — возразил Хвалынцев, — а великорусские чиновники, например? А православные белоруссы из городских обывателей? А попы православные? Конечно ведь не все же таковы, как вот этот, что пошел сейчас. Разве все это не составляет элементов для общества?
— А вот посмотрим! — начал ему на это Холодец. — Возьмите сначала хоть последних, то есть попов. Между ними, я вам скажу, всякие бывают. Я не говорю об одной Гродне, но о целом крае, насколько я его знаю. Между ними очень многие искренно сожалеют, например, об унии и мечтают, "кабы она знов навроцилася"; эти все почти сочувствуют полякам. Да оно и понятно: правительство их «воссоединило» и затем бросило на произвол судьбы, а "найяснейшее панство", которое допрежь сего и почет униятскому попу оказывало, и поддержку, и пособие, и все, что хотите, — панство вдруг от него круто отвернулось, как от малодушного человека, который принял «схизму» — и несчастный поп волею российской власти вдруг очутился на самом критическом распутьи. Что делать? Есть-то да пить все ж таки хочется: правительство ничем не помогает, пан прекратил свои подачки — ну, вот тут-то и пошли такие явления, что поп ради гарнца овса стал подлизываться к ксендзу, заискивать его дружбы и покровительства у пана, "абы жиц с чего было!" Худшие, то есть малодушнейшие, из ихняго брата бывают просто домашними шутами у пана; кто же поумнее, тот покорнейший слуга того же пана, а кто почестнее, тот окончательно ушел в «хлопство», в «быдло» своего прихода; и хоть панство делает ему на каждом шагу всевозможные мерзости, но он все-таки твердо держится своего; это из них, конечно, люди самые честные и достойные всякого уважения, да и слава Богу еще, что в них нет недостатка; благодаря им-то и простой сельский народ остается пока еще самим собою, несмотря на долю религиозного индифферентизма, который вы иногда заметите здесь в православном собственно населении. Это все я говорю о попах сельских, — продолжал Холодец, — а что касается до городских, ну… то они все большею частию отменные практики и политики; держатся того берега, где течение сильнее, поэтому при настоящем положении дел, они, можно сказать, не составляют ровно никакого пригодного элемента для русского общества: течение-то ведь неизмеримо сильнее с польской стороны.
Сведение это было для Хвалынцева совсем ново, но он все-таки не хотел оставить своей первоначальной мысли, подавшей повод к этому спору.
— Ну, хорошо-с; а великорусские чиновники, которые есть же тут? — сказал он.
Доктор только рукою махнул.
— Об этих лучше и не говорить! — презрительно проронил он сквозь зубы. — Высший экземпляр этого рода вы изволили давеча за обедом видеть в трактире, в лице его сиятельства князя ***. Ну-с, хорош?
— Жалостен! — усмехнулся Хвалынцев.
— Жалостен? А это еще чуть ли не лучший! Во-первых, — продолжал Холодец, — все мы приезжаем сюда с убеждением, что здесь Польша, и редко кто из нас задает себе труд вглядеться, точно ли здесь Польша? А иной хоть и раскусит, но как же не тянуть панскую руку? Это ведь будет так нелиберально, так отстало, так — с позволения сказать — русски-патриотично! За это ведь, пожалуй, чего доброго, еще и в Колоколе отшлепают, и всю карьеру свою тогда потеряешь! А ведь мы, прежде всего, стараемся, как бы не подумали о нас, что мы не либералы. Ты хоть скажи мне пожалуй, что я подлец, но только либеральный подлец — и я тебя за это в умилении расцелую! Это вот один сорт наших русских чиновников. Затем другой сорт — это просто взяточники и честолюбцы, которые потому тянут за панов, что те им в руку за это изрядно суют и всячески стараются для них темными путями о крестах, чинах и отличиях. Третий сорт, наконец, знай себе строчит только входящие да исходящие, рапорты да отношения и ни до чего больше ему и дела нет; он и не слыхал даже, что это, мол, за зверь такой польская пропаганда? Ему лишь бы к празднику наградные да месячное жалованье получить, а затем… а затем — "как начальство-с прикажет!" И будь тут для него Россия ли, Польша ли, Турция или даже Патагония — "Гудок ли, гусли — Литва ли, Русь ли" — это ему решительно все равно! Вот вам три типа наших великорусских чиновников, а все вместе, в совокупности, мы дичимся друг друга и сидим по своим берлогам, вразброд, в одиночку, особняком, и почти не знаем друг друга, а все оттого, что русский чиновник прежде всего чиновник, и кроме рапортов да исходящих, да жалованья, да еще либерализма ни до каких социальных, больных и щемящих вопросов ему и дела нет! Итак, вот вам и второй общественный элемент у нас круглым нулем оказывается.
— Да неужели же все такие? — недоверчиво воскликнул Хвалынцев.
— Нет, попадаются иногда счастливые исключения, — сказал доктор, — но… одна ласточка еще весны не делает и к тому же еще один в поле не воин, как сами, поди-ка, чай, знаете!
— Но объясните же, Бога ради, — воскликнул Константин, — откуда это, отчего это в русских людях вдруг является такая паскудная уступчивость всем этим наглым притязаниям, это подлизыванье, уклончивость эта?
— Э! а вы ни во что не берете наше мелкое самолюбьице да чванство! — возразил доктор. — Во-первых, мы либералы, — не забывайте! Во-вторых, мы начальства и Колокола боимся, а в-третьих, нас хлебом не корми, лишь бы только поляки сказали про нас: "А, то хоць и москаль, алежь поржондны москаль и таки добржемыслёнцы!".[121] Ведь подобный отзыв это для нас в некотором роде праздник сердца, именины души! Пропадай там пропадом «мать-Рассей» — лишь бы «чужие» сказали, что мы «либералы». О, для этого мы готовы под эту сиволапую «Рассей» даже собственноручно втихомолку огоньку подложить и лягнуть еще ее вдобавок во всю свою мочь ослиную!.. Это ведь так либерально!
— Но… возвращаясь к прежнему вопросу, — продолжал Хвалынцев, — а третий же элемент? Православные и образованные белоруссы! Эти-то что же?
— Эти тоже бывают двоякого рода, — начал было Холодец, как вдруг…
В эту самую минуту приблизились двое каких-то господ, довольно прилично, хоть и скромно одетых, и опустились на туже самую скамейку, где сидели наши приятели. Один из новопришедших курил папироску.
Хвалынцеву вдруг тоже захотелось покурить. Он вынул портсигар, достал одну сигару себе, другую предложил доктору, и затем очень вежливо обратился к своему курившему соседу, сказав ему по-русски:
— Позвольте, пожалуйста, попросить у вас огня?
Но сосед в ответ на это оглядел его с ног до головы и потом обратно с головы до ног нагло-удивленным взглядом, потом передернул плечами, пересмехнулся о чем-то со своим приятелем и вдруг с дерзким нахальством бросил свою почти только-то закуренную папиросу на землю, как раз перед Хвалынцевым, затоптал ее и поднялся со скамейки вместе с товарищем в намерении удалиться.
— Экой невежа! — нарочно громко сказал ему вслед Константин, возмущенный этой беспричинной дерзостью.