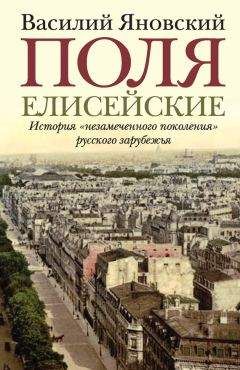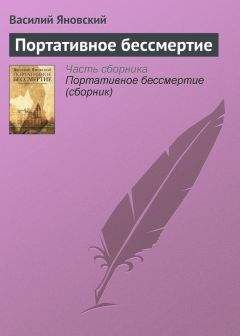Василий Яновский - Поля Елисейские
- Пойдем, я тебя угощу,- вдохновенно приглашаю ее и веду к буфету, где в белом кителе и колпаке возвышался уже сильно помятый Ш.
- Валерьян, - говорю я твердо, но чересчур громко, радуясь отчетливости своей речи. - Валерьян, два, понимаешь! - и показываю пальцами количество, чтобы не было ошибки.
Валерьян Александрович понял и налил два полных "бока" из-под пива водкою. Мы с Червинской чокнулись. Впрочем, тут я заметил какое-то недоумение в умном взгляде поэтессы... Я честно осушил свой "бок" и, сообразив, что Червинскую такая порция убьет, отнял ее стакан, она успела только пригубить, и тут же по-рыцарски, жертвенно сам проглотил содержимое. Пом-ню еще, что я собирался "плотно" закусить, чтобы противостоять хмелю, и ухватился за куриную ножку... Но здесь наступило затмение.
Как потом передавали многочисленные друзья и заступники, мне не дали упасть, а, подхватив под локти, повели, понесли через все залы, а я, судорожно держась за куриную четверть, плевал и охал.
В шикарных залах Hoches в центре есть какая-то площадка, может, для большого оркестра... Туда меня положили - на виду у всех. Там я часа три отлеживался, как некое грозное предосте-режение ликующим внизу.
Время от времени Червинская, Адамович, Зуров, еще другие наведывались ко мне, давали технические советы. Впоследствии десятка два доброжелателей меня уверяли, что они меня спасали, поддерживали, укладывали.
Был такой эсер, зануда, недотепа, общественный деятель, неудачный издатель (editeurs mines - мы, бывало, шутили) - Илья Николаевич Коварский. Интеллигент с чеховской бородкою, всю жизнь занимавшийся не своим делом; только здесь, в Нью-Йорке, вернувшись к врачебной прак-тике, он вдруг нашел себя и стал полезным тружеником. То же можно сказать про Соловейчика, секретаря Керенского - превратившегося в способнейшего преподавателя географии в американ-ском колледже.
Итак, Коварский, с лысинкой и язвительным, вредным смешком, рассказывал мне потом, что на этом балу он заведовал чайным столом; стол "дешевый"и помещался в коридоре. Но рядом с ним пристроился известный богатый, старый и больной, меценат.
- Я ему говорю,- объяснял мне Коварский, жмурясь от удовольствия.- Я ему говорю: "Зачем вы здесь сидите на сквозняке? Пройдите лучше в залы, где танцуют". А он отвечает так решительно: "Нет, нет, я пришел на бал с единственной целью посмотреть на современных рус-ских писателей и здесь я всех увижу". Только что он это произнес, - радостно поверял Коварс-кий,только что он это сказал, и вот вас уже ведут или несут в таком виде, ха-ха-ха. Вот погля-дел на современных писателей!
Как бы там ни было, но для характеристики наших тогдашних настроений важно отметить, что в последующие годы я был убежден, что принес себя в жертву - "за други своя", и гордился этим. Разумеется, можно вылить вино или вообще не пить его, но это уже другой "подход".
О моем протеже Ш. скажу здесь вкратце, что он не оправдал надежд и тоже очень скоро провалился куда-то в чулан или в подвал.
Лидия Червинская тогда, кажется, решила влюбиться в НН. - человека тонкого, деликатно-го, слабонервного и многосемейного; она допекала его своими искусными "выяснениями отноше-ний". НН.- известный эстет с хорошим вкусом, среднего возраста, нуждался совсем в других отношениях: он чуть ли не впервые изменял жене. Но Червинская не понимала этого. Помню, раз НН. подбежал к нашему столику и, обращаясь к Фельзену, но громко и с отчаянием несколько раз повторил:
- Я больше не могу! Я больше не могу!
Любопытно, что именно такое выражение обычно вырывалось у людей, коих Червинская заедала: - Я не могу, я больше не могу!
В предвоенные годы между "Кругом" и Монпарнасом мы с Червинской часто досиживали ночь - до первого метро.
У Червинской было глубокое чувство "табели о рангах"... Если бы умнейший НН. не был на хорошем счету в "Зеленой лампе", она бы, пожалуй, не затеяла романа. Снобизм ее казался наив-ным и беспомощным, уживаясь, впрочем, с несомненной внутренней честностью.
В свои "плохие" дни Червинская приходила на Монпарнас в стоптанных туфлях на босу ногу, распространяя аромат эфира.
После ухода из Парижа Червинская жила одно время при новой семье Кельберина на юге. В Монпелье я встретился с великодушнейшим Савельевым, работавшим в Тейтелевском комитете, и устроил нескольким литераторам стипендии. Все эти писатели были христианского вероиспове-дания.
Через несколько дней я получил нежное письмо от Червинской, благодарившей за 200 или 300 тейтелевских франков и вспоминавшей, как я ее "спас" от стакана водки.
Был такой писатель Агеев, проживавший в Константинополе по южноамериканскому паспор-ту; он присылал свои рукописи в Париж, и все старались талантливому прозаику помочь. Его "Роман с кокаином" мы с Фельзеном издали отдельной книгой.
Когда Агееву понадобилось возобновить просроченный паспорт, он прислал его в Париж. Почему он не сделал это в Турции, лично, могу только догадываться. И Оцуп передал Червинской документы Агеева... Но, увы, паспорта она не продлила, а когда месяцев через шесть Агеев попро-сил ему вернуть вид, хотя бы просроченный, то обнаружилось, что Лидочка бумаги потеряла. Тут все не случайно. И то, что ей, доброму товарищу, доверяли, и то, что она, увидев где-нибудь Адамовича или НН., побежала за ними, забыв про сумочку, деньги и документы.
Вот эта "агеевщина" мне всегда припоминается, когда говорят о "деле" Червинской во фран-цузском резистансе и суде над нею (после войны).
Червинской поручили ответственное задание, посвятили в секрет, от которого зависела жизнь двух десятков детей. Тут вся ошибка не ее, а тех вождей, руководителей! Поручать, в то время, Червинской, ответственные, практические задания - явное безумие!
Еще до "Союза писателей и поэтов" бывали другие литературные кружки. На тех, доистори-ческих вечерах гремели звезды раннего периода: Евангулов, Божнев, Гингер (Зданевич, Шаршун). В подвале кафе на столике во весь рост стоял жизнерадостный Евангулов и выкрикивал стихи на манер Маяковского. Когда в подвал спускалась дама в мехах, он прерывал строфу и говорил очень почтительно: "Сюда, графиня, сюда, пожалуйста!"
Из этих поэтов только один Гингер, пожалуй, остался. Божнева я встречал в Марселе (1941 г.); тогда он напоминал немного Фельзена, не по краскам, а по манерам... Вежливый, точный и внешне ограниченный.
Шаршун древний парижанин: еще со времен "первой" мировой войны обучался здесь живо-писи. Живопись его не была абстрактной, а эзотерической. Он, кажется, считал себя антропосо-фом, хотя говорить по этому поводу складно не был в состоянии.
От Шаршуна в конце двадцатых годов я впервые услышал о Кафке и за это одно должен уже быть благодарен ему.
Писал он "сюрреалистическую" прозу много и давно, но печатали его, пожалуй, только "Числа" и "Круг". Благодаря "Числам" он даже одно время превратился в модного писателя, что, кажется, его погубило. Его живопись признали только недавно.
Шаршун принадлежал к разряду авторов-"графоманов": то есть при несомненном оригиналь-ном таланте, совершенно лишенных дара отбора! Повторяю, были огромные художники, не лишенные элементов графомании: Джойс, Томас Вулф, Андрей Белый, Ремизов... Сирин.
Когда отрывок из его "Долголикова" прошел в "Числах", Шаршун потащил в редакцию все, что у него лежало... и это оказалось детским лепетом.
Существо, лишенное кожи, он реагировал быстрее и резче на любое прикосновение жизни; в результате получался поток слов, который он нес к редактору с доверчивым видом седеющей лани.
Был он вегетарианцем, холостяком; вероятно, молился и совершенствовался в уединении и нужде; в его присутствии мне чудилось: чистый глубокий маленький ключ пробивается на поверх-ность из глубин.
Готовил себе обед из 30 или 40 овощей и сырых корешков; базой служили молотый горох с натертой морковью... И когда вечером подходил близко, шепча: "Значит, я завтра вам занесу" или "Значит, я ему передам", то люди жмурились от свежего запаха чеснока или лука.
Раз на Выставке зарубежной литературы Шаршун мне с Фельзеном сообщил, что шведская переводчица, которую мы встретили у Мережковских и обещали повести к Ремизову, назвала потом в письме его, Шаршуна, трусливым сутенером. Мы расхохотались: так неожиданно было это определение и не подходило ему.
- Нет, не смейтесь, - удрученно повторял Сергей Иванович, поводя большой оленеобраз-ной головой с очками в темной роговой оправе. - Нет, тут что-то она, действительно, верно уловила.
Кстати о его тяжелых очках с эзотерической оправой... Ими восхищался Поплавский:
- Это делает его похожим на sous-secretaire d'etat!* - уверял Борис.
* Заместитель министра (франц.).
Почему су-секретэр, а не полный секретэр - Поплавский не желал объяснять и начинал ругаться.
Зато Слоним носил пенсне, что смешило, или что-то, весьма похожее на пенсне: легкое, деликатное.
В конце двадцатых годов, в самом начале 30-х, "Кочевье" Слонима процветало. Там по четвергам, в кафе против вокзала Монпарнас, собиралась почти "вся" литература. В России тогда гремели Бабель, Олеша, ранние Зощенко, Леонов, Катаев... Советскую словесность можно было принимать всерьез... Чем и занимался охотно Слоним. Но когда "гайки" были окончательно завинчены первой пятилеткой, говорить больше не о чем стало (в смысле искусства). Мы это сразу поняли; все, за исключением Слонима, человека самонадеянного и самоуверенного. И "Кочевье", захирев, протянуло ноги.