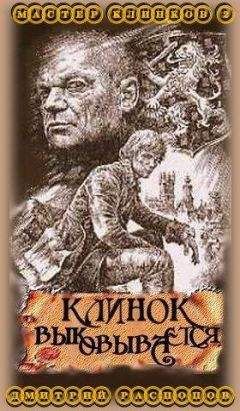Юлия Жадовская - В стороне от большого света
Я возвратилась в дом. Комнаты, хотя и были освещены ярким весенним солнцем, но пахли еще пустотой и зимнею сыростью. Приемные комнаты, с чинно уставленными креслами и диванами, обитыми полинялою шерстяною тканью и как будто привинченными к полу, показались мне холодны и пусты; шаги в них раздавались глухо и дико, как будто самые комнаты одичали, редко посещаемые живыми существами. Я бы не решилась сдвинуть в них ни одного кресла; мне казалось, что сейчас явится какой-нибудь грозный дух и накажет меня за беспорядок. Несколько потемневших картин висели по стенам; сюжеты их большею частью были из священной истории.
Татьяна Петровна поместилась в небольшой комнате с лежанкой в другой половине дома и расположилась пить чай.
— Ты была в саду, Генечка? — спросила она меня. — Вот у меня садик, хотя и небольшой, но в порядке, не то что у покойной сестрицы: там сад был совсем запущен. Ну при ее ли состоянии было поддерживать такой огромный сад! И дом-то весь заглушил, в окна лез.
— Я его очень любила, — сказала я.
— Ну да тебе в нем бегать было просторно.
— У нас было много воздушных жасминов, белой и лиловой сирени… всяких цветов.
— Хорошо, что ты напомнила мне о воздушных жасминах; надо достать кустик да посадить. А вот посмотри-ка там, в огороде, сколько ягод.
— Вы мне, ma tante,[16] позволите гулять подальше в поле? Я привыкла много гулять.
— Неужели одна?
— Одна, ma tante.
— Как ты не боишься? мало ли что может случиться! Все до времени… Вот гуляйте вместе с Анфисой.
— Очень рада, — отвечала та.
— Степанида Ивановна! где моя комната? — спросила я ключницу, выйдя в девичью.
— Вон, матушка, наверху; пожалуй за мной, я провожу.
— Что, вы рады ли деревне, Степанида Ивановна?
— Что, матушка, наше дело подвластное: куда прикажут, и едешь; родных у меня нет. В городе-то вот только тем хорошо, что церковь Божья близко; грешница, хоть лоб-то лишний раз перекрестишь.
— Молиться везде можно.
— Да уж, матушка, живешь на грехе, — какая молитва! Вон посмотришь, добрые люди где-где по святым местам не побывают! У меня есть старушка знакомая, так она в Киев три раза ходила, в Соловках была. Чтой-то, как она поскажет, каких она мест не видала! А в Киеве-то, говорят, груши да чернослив так вот растут, как у нас рябина либо черемуха. Уродил же Господь этакую сторонку! хоть бы глазком взглянул, да и умер!
Путешествие в Киев сделалось у Степаниды Ивановны со времени знакомства ее с год тому назад с одною старушкой богомолкой постоянною мечтой. Эта мечта тревожила ее до такой степени, что Степанида Ивановна начинала тяготиться своими обязанностями и часто говорила:
— Хоть бы уж отпустила меня Татьяна Петровна! Послужила я ей, и без меня у нее много, ну на что я ей нужна?
По кладовым-то есть кому ходить. Хоть бы я о душе-то своей порадела.
— Эх, Степанида Ивановна! неужели вы думаете, что как вы пошатаетесь по разным местам, так и спасетесь? — замечала я ей.
— Так неужто здесь, на этаком грехе, спасенье? Только, окаянная, осудишь, лишнее скажешь, ну видишь — не терпится.
Грехом она называла все соблазнительные вольности молодых горничных, возмущавшие ее до глубины души.
Степанида Ивановна очень любила меня и делилась со мной всеми своими горестями. Но не всегда жаловалась Степанида Ивановна; часто, когда я уже укладывалась в постель, она приходила ко мне в ночном костюме (она спала в смежной комнате), то есть в одной рубашке и платке на голове, вставала на колени у моей кровати и разговаривала о разных интересных предметах. Мне доставляло удовольствие говорить ей о вещах неслыханных и до сих пор неподозреваемых ею. Она, старая Степанида Ивановна, с совершенно детским, жадным любопытством слушала меня. Да и как ей было не слушать: от меня узнавала она, что есть страны, где не бывает зимы, что есть далеко-далеко большое государство Китай, откуда привозят чай, столь ею любимый, где он растет в полях и где его собирают, как у нас сено, узнавала, какие люди в Китае и что они идолопоклонники. Также узнала она за великую новость, что французы, немцы, итальянцы — христиане, а турки веруют в Бога и не верят в Христа.
Пожелав мне покойной ночи, она всегда говорила, уходя:
— Больно вы умны, матушка. Господь открыл вам… А-а-х! чего нет на белом свете!
Вскоре получили письмо от Лизы, в котором извещалось, что она с мужем по разным причинам не может приехать нынешнее лето, а что если будут живы, то на будущее лето непременно постараются быть.
Татьяна Петровна получила также письмо от Абрама Иваныча (весельчака генерала, приезжавшего на свадьбу Лизы и покровительствующего ее мужу). Тетушка объявила, что Абрам Иваныч обещается в июле месяце непременно приехать к ней погостить. Она объявила это с какою-то скрытою радостью, и хотя в голосе ее было обычное равнодушие, но лицо оживилось до того, что покрылось ярким румянцем.
— Вот, — прибавила она, — нынче уж таких знакомств не делают: пятнадцать лет я его знаю, и во все это время никогда не переменялся. В память покойного моего друга (так называла она своего мужа) он готов для меня в огонь и в воду.
— Почтенный человек! — сказала Анфиса, — уж точно, он для вас все равно что родной…
Татьяна Петровна как-то подозрительно взглянула на Анфису; но видя, что та бесстрастно стегает иголкой, отвернулась и сказала:
— Родные бывают в двадцать раз хуже. Вот есть у меня родной братец — все равно что чужой.
— Это дядюшка Василий Петрович?
— Да, ведь ты его знаешь. Что? допекал, я думаю, он покойницу сестрицу, как жил у вас прошедшее лето?
— Случалось.
— Уж я так и думала, как она написала мне, что к вам этот дорогой гость пожаловал.
— Где он теперь служит, тетушка?
— Хорошее место получил; еще, право, он счастлив. После этого тетушка взяла со стола письмо Абрама Иваныча и стала его снова перечитывать.
Я глядела на тетушку, и мне вдруг пришел в голову странный вопрос: могла ли бы она влюбиться?
Однажды я взяла карты и стала их раскладывать перед Татьяной Петровной.
— Что ты это, гадаешь что ли? — спросила она меня.
— Гадаю.
— Будто ты что-нибудь и смыслишь?
— О, я мастерица! Я у Катерины Никитишны выучилась.
— Ну-ка, погадай.
— Извольте, задумывайте.
— Ну, на трефовую даму.
Я разложила карты, движимая каким-то особенным вдохновением.
— Ну что же вам сказать? У этой дамы есть король, который желает ее видеть. Желание его исполнится. У этой дамы на душе есть тайная, глубокая любовь, в которой она не признается никому. Она думает, что о ней не догадывается даже и тот, кого она любит, а он знает это или догадывается. Она не надеется, не ждет ничего, но в жизни ее случится счастливый переворот: ей предстоит дорога. Тетушка улыбнулась и сказала:
— Кажется, ты все врешь.
Она еще никогда так фамильярно-ласково не говаривала со мной.
— Погодите, еще не все, с чем останется.
Я сняла пары, трефовая дама осталась с червонным королем и трефовою девяткой.
— Видите, она не расстанется с червонным королем и будет жить с ним вместе, в одном доме. Дама эта, — продолжала я, выдергивая еще несколько карт, — очень недоверчива; она кажется веселою и покойною, но часто грустит. В ее прошедшем та же любовь и к тому же королю. У нее были враги, но они далеко.
Все это я говорила с важным, таинственным видом.
— Анфиса! — сказала тетушка, — ведь она в самом деле чудесно гадает.
— Я и то слушаю да удивляюсь.
С этих пор, увы, тетушка заставляла меня гадать по нескольку раз в день. Попавши раз на удачную тему, я развивала ее вполовину по картам, вполовину по какому-то смутному инстинкту. Я говорила тетушке такие вещи, относя их к трефовой даме, которые никогда бы не решилась сказать ей без карт. Я осторожно прикасалась к тайным и скрытым пружинам души ее, будила чувства, по-видимому, уснувшие, и поняла, что тетушка не бесстрастна и не стара душой. Каждый раз черты лица ее смягчались и оживлялись, она делалась веселее и говорливее.
Анфиса Павловна тоже попросила меня предсказать ей ее судьбу; я пророчила ей скорое счастливое замужество, и она просияла.
Одним словом, я сделалась оракулом этих двух женщин и могла их огорчать или радовать по своему произволу. С тетушкой устроился у нас даже род некоторой откровенной беседы посредством карт, и из существа лишнего, ненужного я обратилась почти в приятную собеседницу.
Татьяна Петровна вместо прежних строгих предписаний заниматься больше работой сама очень снисходительно позволила мне пользоваться довольно хорошей деревенскою библиотекой ее, так же как и гулять, когда и где мне вздумается.
— Нет, сегодня я даром не буду вам гадать, — сказала я однажды шутя. — Прикажите садовнику поставить резеды в мою комнату.