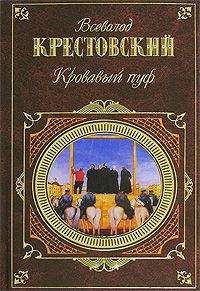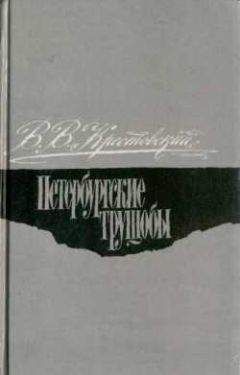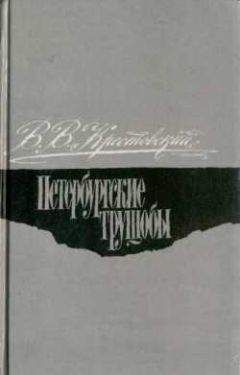Всеволод Крестовский - Кровавый пуф. Книга 2. Две силы
Холодец жил на одной из самых тихих и вечно пустынных улиц, которые, обрамляясь с обеих сторон своих фруктовыми садами, тянутся параллельными линиями между Роскошью и Ржезницкой.[114] Он занимал в глубине закрытого двора отдельный деревянный флигелек, который двумя сторонами своими вдавался в небольшой сад, где весной и летом должно быть просто прелесть как хорошо! Два окошка из кабинета и одно из спальной выходили у Холодца прямо в зелень этого садика.
— Чаю, Ибрагимов! да живее, голубчик! — еще входя в сени, вскричал он своему денщику, из касимовских татар, и вдруг, откуда ни возьмись, с радостным визгом и лаем бросилось к нему тут же несколько собак, между которыми был и бернар, и волкодав, и понтер, и булька, и великолепная, грациозная борзая.
— Ну, вы, благодетели!.. Ладно!.. будет!.. довольно!.. — говорил им доктор, снимая пальто, тогда как собаки визжали и, махая хвостами, вились около него и нежно, ласково кидались ему на грудь. — Ну, ты, Кавур… Эка, подлец, чуть с ног не сбил! — крикнул он на громадного черного бернара, с необыкновенно умною и кротко добродетельною мордою. — Проходите, Хвалынцев, вот сюда, в эту дверь, а то эти скоты, пожалуй, с ног совсем сшибут вас. У меня ведь их целая псарня: шесть душ крепостных имею благоприобретенных.
Хвалынцев прошел в указанную ему дверь и очутился в очень милой, симпатичной комнате.
Эта комната, служившая кабинетом и всем чем угодно, как нельзя более обрисовывала собою и характер самого хозяина. Впрочем и вся его квартира была в том же духе. Прежде всего здесь слегка, но неприятно чувствовался тот особенный «холостой» запах мужчины, который так свойственен некоторым офицерским и студентским квартирам, что составляет по преимуществу их характеристичный запах. Потом здесь с первого взгляда кидался в глаза хаотический, но очень красивый беспорядок во всей обстановке. Бывают разные беспорядки подобных обстановок: бывают иногда очень красивые, но вы чувствуете в них какую-то изысканность, словно бы этот беспорядок придумывался нарочно, словно бы над ним измышляли: как бы это, мол, сделать, устроить его покрасивее, поизящнее! — и тут уже явно сказывается претензия, иногда очень изящная, но все-таки претензия. Здесь же, прежде всего чувствовалось явное отсутствие каких бы то ни было претензий, какой бы то ни было предвзятой, нарочной мысли. Этот хаос и красивый беспорядок здесь являлся как-то сам собою и был вполне естественен, так что казалось, будто доктора Холодца и невозможно вообразить себе без этого хаотического беспорядка. Стены были завешены персидскими и французскими бархатными коврами. Иные из них уже совсем выцвели от ветхости и употребления, другие же, напротив, глядели своими яркими цветами, точно бы сию вот минуту из-под ткацкого станка. Рисунки этих пестрых ковров изображали букеты, арабского коня с бедуином, оленя, преследуемого собаками, отдыхающего льва и задумчивую амазонку. На полу валялись тоже стертые ковры и неотделанные волчьи шкуры, — трофеи неоднократных травль самого доктора. В углу блестел наконечник рогатины, но рогатина эта не отличалась ни малейшим щегольством, а заявляла себя практическою крепостью, которая надежно могла бы выдержать тяжесть медвежьей туши. На одном из стенных ковров висело три охотничьих ружья, пара старинных пистолетов с золотой насечкой, офицерский форменный револьвер, базалаевский кинжал и персидская шашка. Пропасть всевозможных книг в беспорядке валялась везде и повсюду: на столе, на полках, на стульях, на подоконниках, и между ними можно было заметить самые разнообразные издания: "Военно-Медицинский Журнал", "Медицинский Вестник", истрепанный «Современник», "Записки", "Revue des deux Mondes",[115] "Воинский Устав", Фогт, Дарвин, Четьи-Минеи в древнем корешке и французские компактные иллюстрированные издания Бальзака и Поль-де-Кока, — все это находило себе место в хаотическом беспорядке изобильно разбросанных книг доктора Холодца. На простой тесовой полке виднелись разные химические препараты, реторты, склянки с разноцветными жидкостями, медицинские и хирургические аппараты и инструменты, и оттуда же, осклабляясь, выглядывали два черепа, на одном из которых была ухарски напялена старая уланская фуражка, вероятно, позабытый и оставленный в таком же положении плод веселого настроения которого-нибудь из военных приятелей доктора. Папиросные окурки и табачная зола разбросаны были повсюду.
По одной стене чернелись скрещенные рапиры с эспадронами и две маски. Чья-то маленькая, лиловая женская перчатка очень лукаво выглядывала на свет Божий, нечаянно высунувшись из-под книг, на письменном столе, где и самое существование ее, очевидно, было позабыто и хозяином этой комнаты, и той шалуньей, которая ее здесь ненароком оставила. На письменном столе, между бумагами, лежали две подковы, несколько раковин да минералов, разбросанных тоже и на подоконниках и на полке, и на шкафчике, а подле подков стоял микроскоп, стетоскоп, стереоскоп и два женские акварельные портрета: на одном была изображена очень почтенная старушка, по всем вероятиям — мать доктора; на другом какая-то очень красивая женщина — надо так думать, отмеченная чем-нибудь особенным в его цыгански-бесшабашном сердце… Тут же пылился и холодал с утра недопитый стакан чая с лимоном, забытый точно так же, как и все остальное, и денщиком, и барином. На дверях была прибита картонная мишень с этикеткой Пражского Лебеды, очень метко пробитая маленькими пистолетными пульками комнатного монтекристо. У окон, на простых деревянных стойках, зеленели цветы и кое-какие экзотические растения, а по стенам развешано было несколько гравюр и две масляные картины без рам, — обе старой, хорошей работы: на одной какой-то сельский вид, на другой очень зкспрессивная голова страдающего Христа.
Когда Хвалынцев мельком заглянул в смежную комнату, где помещалась спальня доктора, то заметил над железною походною кроватью, рядом с бархатным надпостельным ковром, древнего письма образ в древней же кованой и позолоченной ризе. Он не утерпел, чтобы по минутному, необдуманному побуждению не осведомиться на этот счет у доктора.
— Что это у вас за образ? — спросил он, никак не ожидая в спальне «современного» человека и притом еще «медика» встретить вдруг православную святыню.
— Это предсмертное благословение моей матери, — ответил доктор серьезно, просто и совершенно спокойно.
Хвалынцеву, после такого несмущенного и столь естественного ответа, стало несколько стыдно в душе за то чувство, которое вызвало его на нескромный вопрос, и потому, отвернувшись к стене, он стал рассматривать висевшие там гравюры под стеклом, в простых, черных узеньких рамках. Между этими произведениями искусства сказывалось тоже нечто беспорядочное: тут были очень красивые эскизы лошадиных голов, хромолитографический портрет бульдога в гороховом сюртуке, с сигарою в зубах, фотография с группы Лаокоона, портреты доктора Пирогова и Гоголя, фотографии Венеры Медицейской, Сикстинская Мадонна и две-три шикарные гравюры, изображавшие полуобнаженных женщин и парижских гризеток в изысканно-пикантных костюмах и в изломанно-изящных и тоже весьма пикантных позах.
— Что это вы рассматриваете? — мимоходом спросил Холодец, руки в карманы и посвистывая расхаживавший по комнате.
— Да вот, на это сочетание гляжу, — ответил Константин, указав глазами на Мадонну и гризеток.
— Э, батюшка! — улыбнувшись, махнул рукою доктор. — Оно и точно, странно немного. Но… ведь я отчасти то, что называется киник. У меня все это ужасно нелепо, но как-то органически совмещается во мне: идеализм с материализмом, святой Августин и Молешотт, Гегель и Фейербах, Сикстинская Мадонна и гризетки, арапники и хирургические инструменты, Шекспир и Поль-де-Кок, Добролюбов с Чернышевским и Фет с Полонским. Черт его знает! это какая-то ерунда выходит, но ведь и сам-то я в сущности не что иное, как олицетворенная ерунда и безалаберность! Да что вы стоите все? Садитесь-ка! — обернулся он вдруг к Хвалынцеву и, бросив кожаную подушку, указал ему покойное место на диване. — Э, да тут страх какая пыль!.. Ибрагимов!.. Сотри-ка, братец!.. просто сесть нельзя! Извините, пожалуйста!
Ибрагимов явился с тряпкой и стал стирать обильную пыль с дивана и кресел. Хвалынцев заметил при этом, что пыли достаточно-таки лежало на всех без исключения вещах и предметах докторской комнаты.
— Что это у вас такое? — вдруг спросил он, усмотрев в углу пудовые гири и круто изогнутую кочергу. — Кто это занимается?
— Да все я же! — ответил доктор, ходючи из угла в угол.
— Как!.. неужто сами гнете так?!
— Бывает, по малости!.. Черт его знает!.. Иногда, я вам скажу, чувствуешь в себе такой избыток этой беспричинной силищи, что, кажись, не только кочергу, а и самого черта все хотелось бы гнуть да ломать!.. Время такое на меня находит каторжное!