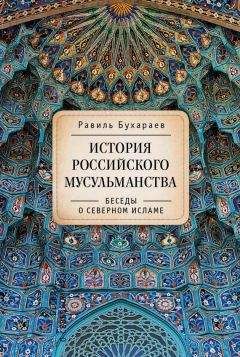Равиль Бухараев - Дневники существований
Так, может, в справедливости происходящего, и не мудрость это вовсе, а ненарочитое лукавство и опасливая боязнь грядущего, заставляющая искать посильного убежища в притворной смерти, - той самой, что позывает к исчисленью минувшего, но претит дерзости, порыву, еще живому, Господи, стремлению к настоящей исполненности?
Да не правда ли, что живое останется живым, и не уйдет, не исчезнет никуда тот натюрморт с цветами и морковью, тем и памятный вовеки, что стоят вкруг него в таинствах памяти воплощения земного и небесного сочувствия и состраданья - бабушка, дедушка, родители мои, сирень, и тополь, и долгие осенние леса Заказанья, пролетевшие однажды мимо меня и все возвращающиеся в разных обличьях в круговороте любви и жизни.
Дай же мне вновь зачерпнуть из нескончаемой радости, выданной во обещание свершенности, и увижу я наконец, что все происходящее все еще происходит и со мною! И тогда - сквозь стыд, сквозь извечную ученическую неумелость возрадуюсь и утешусь простым открытием наблюдательного очевидца: ни одно обещанье не дается Тобою всуе, и все, что требуется для новых ожиданий будущего, - это смиренное мужество духа; оно же разве не нажито хоть сколько-то памятью и раскаянием?
Вот уже и светится, да неужели же опять ликует в страшном разуму грядущем первопричинная радость, претворяющая все искони чужое в твое, кровное, потому как зачем и нужен этот мир, если не унести его целиком с собою за грань существований, где - ведь правда, правда же? - вечно растет и вовеки не утрачивается ничто из воистину посаженного и, с Божьей помощью, трудно взращенного тобою...
Про музыку
Из аэропортовского предместья мы еще в первом детстве моем переехали в пятиэтажный краснокирпичный дом, и посейчас стоящий недалеко от реки Казанки, от которой отделяли нас лишь лесополоса американских кленов, проходящая по оврагу сибирская железная дорога да огороженные сады, разбросанные по косогорам, обрывающимся к реке.
И вот - не помню ли я нечто, не имеющее названья, прекрасное как небыль и все же бывшее со мною - и опять в Казани, в честном отрочестве, в том состоянии свершающейся, сознающей себя души, в какое я теперь так стремлюсь возвратиться?
Как это было? На лыжах мы с папой пошли на Казанку или пешком, но это был опять-таки март - светлое утро после ночной оттепели. С утра ударил морозец, и ночная капель смолкла; снег и гололедица нестерпимо засверкали под солнцем, и небо было голубое.
И вот - завороженные деревья, целые рощи и сады по-над высоким, прорезанным глубокими оврагами берегом Казанки в одночасье стали хрустальными: мокрые с ночи ветви на всем своем протяжении оправились на заре прозрачным и призрачным льдом, а иные щедро убрались пушистой игольчатой изморозью, и продолжалось это изумительно чистое торжество во весь краткий воскресный день.
Деревья стояли стеклянные, но и живые в тот запечатленный миг равновесья между зимой и весною; зачарованные, околдованные ветви, покачиваясь в прекрасном своем оцепенении, лучились, а льдистые пряди плакучих серебряных берез, касаясь друг друга на нечаянном ветру, то позвякивали, как клавесин, то переливались причудливой и чудной музыкой, как эолова арфа. Мы бродили в ледяном, но отнюдь не мертвом великолепии, переходя от одного дерева к другому и словно не веря своим очам, сподобившимся лицезреть это светящееся счастье чистой и нетщетной красоты еще вчера такого обыкновенного мира.
Это снова был дар моего отца - дар невозвратимый и столь нестерпимо прекрасный, что с достодолжным восторгом вынести его могла лишь еще малоопытная и страстями не отягченная душа. Я давно не видел настоящей зимы, и осязаемая неповторимость ледяного того чуда лишь во внезапных воспоминаниях возвращается ко мне нынче, то утешая волшебством былого, то упрекая утраченным восторгом целомудрия, то напоминая, что никому в своей жизни не сумел я отдарить истинного дара.
Но не потому ли дар и истинный, что отдарить его невозможно?
Это было в те особенные времена, что вспоминаются мне как бы озаренными постоянным верным светом - в противоположность иным, словно бы исподволь омраченным непонятными сумерками. Я тогда часто сидел дома, слушал музыку и грезил, и в широкое балконное окно пятого этажа, как помню, всегда лился чистый и просторный свет зимы. Что до музыки, то я сложил себе утешную коллекцию из нескольких любимых пластинок, среди которых были Гершвин, Мендельсон, Бетховен, но не тот, мощный, сильный и солнечный, как светоносный водопад, а иной, лунный, загадочный и печальный, как догадка о том, что земную жизнь редко посещает счастье исполненности.
А еще Моцарт, одна память о котором заставляет меня примириться с белым светом и его несправедливостью. Если в мире был Моцарт, значит, в нем были и свершенность, и совершенство угадывания Божьего замысла. Дивные движенья души - дивное чувство многосложной гармонии мира - дивная внешняя легкость, с чудесной силой в одно мгновенье переводящая радостный солнечный свет во все оттенки чистой и мудрой печали, Моцарт.
Он лежит на траве, и глядит в голубое солнечное небо, и тотчас видит за ним звездную бездну, кромешный мрак, населенный лишь милостивым мерцаньем одиноких созвездий. Это знание истины чистой печалью, намеком и откровеньем звучит в самых легких и беспечных его твореньях, и потому в истинности своей они совершенно необъяснимы, - разве только слезою, источенной слезой нечаянного благодаренья, застающей человека врасплох во многих обязанностях существованья.
Я в детстве долго и отчаянно страдал от собственной бездарности, и Моцарт утешал, как утешает и сейчас, - еще и тем, что похоронен в нищей безвестности в холерной яме с известкой. Это Моцарт-то, и сегодня дарующий счастье миллионам совестливых людей. Зачем нам ждать иного от мира? Мир дает только то, на что способен, и иного ему не дано. Страшно честолюбивый с детства, благодаря Моцарту я научился с поздним спокойствием смотреть на остаточные потуги этого честолюбия, хотя далось это, как близкие знают, нелегко.
Слушать музыку меня тоже научил папа. Все в моей тогдашней жизни принадлежало ему, - меня никогда не тяготило это. Его любимым композитором был Бетховен, полнейшим образом выражавший колоссальную силу жизни и таланта моего отца, ту силу, к сдерживанию и ограничению которой так старалась окружающая советская жизнь. Он, сумевший бы создать себя в любых условиях, долго не понимал этой косности, веря, что подвиг труда всегда бывает замечен. Жаль, что замечают этот подвиг в первую очередь ревнители и прямые завистники, для которых нестерпим даже не чужой талант, а само умение беззаветно трудиться, побеждая в этой жизни, за неимением соперников, только самого себя.
Теперь, вдали от всего, как же больно пронизывают меня знакомые с младенчества звуки "Лунной сонаты", льющиеся иногда в освещенной лишь разноцветьем приборной доски полутьме моего английского "ситроена", лондонскими вечерами, на рутинных дорогах. Что это за боль, что за уязвление стыда за невозможность служить всем и всюду?
Еще на Аэропортовской, другими невозвратными вечерами, посреди неумолимой тьмы, играл мой папа эту сонату на черном пианино, разучивая ее самостоятельно, как и все в своей жизни. Уже взрослому, он признался мне, что всегда мечтал стать композитором, но учиться музыке ему не довелось. Довелось мне, да не дала научиться подлая моя лень.
Я лежал на раскладушке, гудела за чугунной дверцею дровяная печка, и перед нею оттаивала охапка принесенных папой с мороза березовых, сокровенно-сочных поленьев; синее окно подернуто было изморозью, и полоска света светилась под дверью соседней комнатки, где играл папа, повторяя и повторяя начальные фразы сонаты - бессмертной, как земная безответная любовь.
Бережная, но упорная настойчивость, с какою повторялись эти звуки, открыла бы мне, будь я хоть несколько мудрее и искушеннее в терзаниях жизни, что музыка эта долженствовала по справедливости быть иной, не считанной с нотного сборника, а собственной, проистекающей из мужского плача сердца, и не замирающей в замкнутых пределах маленького домика, а плывущей, простерев крылья летящей, парящей над безмолвными и беспонятными зимними просторами последнего предместья, над бесконечно широким, всплошь белым пространством самолетного поля, окаймленного лишь обнаженными оснеженными лесами, которые весной, оживая под перестуки капели, обязательно воскресали и выпускали крошечные листья над сплошным, буйным, но таким кратким праздником первоцветов в розово-фиолетовых колокольчиках...
Легкий шмелиный мед затевался в этих сиюминутных венчиках иван-да-марьи, и солнце, выглядывая из первых дождевых облаков, вдруг освещало их сквозь зреющую листву, и тем таинственнее и гуще, тем свежее в изумрудную зелень становилась тень трав и цветочных гроздьев, по-своему достойных чистой музыки сердца.