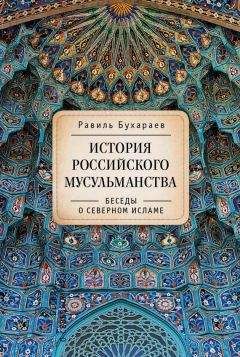Равиль Бухараев - Дневники существований
И важно ли поэтому, с чего начинается и чем завершается человеческое повествование, даже и запечатленное на бумаге? Как бывает со случайными попутчиками, разве ведомо нам, на какой фразе и в каком молчании застанет нас скользящий и нечаянный взгляд другого человека? Важно лишь то, что в любое мгновенье он застигнет тебя в твоей жизни - единственном, что по-настоящему принадлежит тебе и отличает тебя от других созданий. И собственная жизнь его ненадолго коснется твоей, потому что все, что надолго, бывает только в детстве.
Я ведь вспомнил, где впервые увидел таких очень маленьких птиц. Они точно так же изображали живое движение листвы на голом и совершенно уже сухом дереве, лишенном даже корней и помещенном среди других в широкой вольере, накрытой поверху мелкой проволочной сеткой. Вольера эта, предназначенная для хищных птиц казанского зоосада, по осени запустела: орлы, грифы, ястребы и коршуны были пересажены в более тесные, но и более теплые клетки, и сидели там на своих насестах, нахохлясь и отводя взгляд от людей.
Была, свидетельствую, осень - и птицам, и зверям становилось и было не по себе. Окаймленный по берегу городскими деревьями и отгороженный по воде проволочной сеткой сегмент казанского озера Кабан тоже выглядел необитаемым, но покрывшую его рыжую зелень все же редко-редко пересекали полосы черной воды - зримые следы проплывших здесь напоследок уток и лебедей, да и те следы затягивала, смыкаясь, подробная чечевичная ряска. Ближе к берегу на плоскости воды распластывались палые кленовые листья и березовые листки; они лежали, колеблемые и сдуваемые частым ветром, и на берегу, где стоял кукольный домик для водоплавающих птиц, возле которого пригорюнился черный австралийский лебедь с красным клювом. Были там и гуси - они вдруг распахивали объятья ветру, так что становились видны их белые животы и сокровенная изнанка широких подрубленных крыльев.
И гуси кричали в серое небо по-татарски: "Кыйгак! Кыйгак!".
Посетителей было мало - тем явственнее присутствовали в этом обезлюдевшем месте мы с дедушкой моим, переходя от клетки к клетке и отмечаясь возле присмиревших зверей. Некоторые клетки были вовсе пусты, как пуста казалась та просторная птичья вольера с голыми деревьями и приземистыми кустами на каменной горке: напрасно вглядывался я сквозь тянущиеся вверх железные прутья, пытаясь застать в ней что-нибудь живое. Ничего не было - лишь серые остаточные листья шевелились на холодном ветру - и вдруг, с очередным порывом ветра, они разом взлетели и, пометавшись, возвратились на сухие древеса.
И мир, заточенный в пустой вольере, внезапно исполнился для меня смыслом. Обыденные бурые воробьишки, осязающие своими крохотными сердцами неизбежность зимы и неизбывность смерти, самим своим присутствием праздновали в этом мире бедное счастье существования, ибо не в том ли и счастье, чтобы оказаться отмеченным, не говоря уж - запечатленным чьей-либо сердечной памятью?
Так же честно исполнял я по малости и собственное предназначенье благодарно запоминать. Когда же моя душа созрела для упрека?
С холода мы с дедушкой зашли погреться в тепличную оранжерею зоосада: многосложный парниковый дух исходил от заморской растительности в деревянных, стянутых обручами кадках: нездешние ароматы витали во влажной теплыни. Резные, узорные, просторные и перистые листья нависали над нами, а меж ними, в ботанических недрах, таился опасливый сумрак.
Мохнатилась пальма; помавал травянистыми, лиственными ветвями банан; цвели олеандры и азалии, и распускала махровые алые бутоны китайская роза, роза без шипов, настолько пленившая мое воображение, что однажды впоследствии я уговорил дедушку купить такой куст - в широких, глянцевых, словно бы всегда мокрых листьях, со стволом и ветвями серой слоновой кости. Этот покупной куст простоял в дедушкином доме у окна, выходящего над огородом, на подставке, возле первого советского телевизора с водной линзой, куда так хотелось запустить аквариумных рыбок, - и ни разу не зацвел. Его выбросили потом вместе с малой дощатой кадкой - я помню, как высыпалась из нее земля и обнажились корни, не оправдавшие надежд.
А тропические рыбки - это отдельная история. Их продавали в оранжерее зоосада, и тем осенним днем мне достались от дедушки два крошечных, бело-красно-черных в полоску барбуса. Я сам их выбрал в аквариуме. Их изловили миниатюрным марлевым сачком и выпустили в поллитровую банку, в которой я и унес домой эту живую часть другого, книжного мира, мира пальм и океанских муссонов, тропических запахов и вечного банного тепла.
Они умерли потом, эти рыбки. Вернулся следующим летом с дачи, а в аквариуме вместо круглых тигровых барбусов плавают продолговатые сине-прозрачные, насквозь просвечивающие гуппи. Перебывали потом в моем аквариуме и алые, и черные, и зеленые меченосцы, и усатые голубые гурами с кисейными - вьются! - плавниками, а барбусов так и не случилось больше никогда.
Мы вышли из оранжереи, и я понес банку с барбусами, тогда же и похитившими мое внимание и воображение. Воробьиная вольера уже полностью опустела - стайка маленьких птиц упорхнула и унеслась восвояси. Мне хочется думать, что унеслась она под-над озером - собственно, тремя смыкающимися туземными озерами, составляющими Ближний, Средний и Дальний Кабан.
Когда-то по этим озерам плавали пароходы с андреевским флагом, уходившие каждый час от центра Казани до сада "Аркадия" и Архиерейской дачи, а дальше там уже на моей памяти холмы, сосновые боры и лиственные рощи, и снова озера, и старицы, и волжские заливы, вторгающиеся в чистые леса, где по осени собирал я когда-то грибы - твердые свежие подберезовики и красноголовые подосиновики, синеющие на срезе.
В этих приволжских лесах почти не было американских кленов, давно уже заселивших город и лесополосы; были дубы, ели, сосны, рябина, черемуха, татарская жимолость. По этим лесам и осенью можно было идти далеко-далеко можно было странствовать куда глаза глядят, а можно было устать и упасть на сосновый или березовый пригорок, разглядывая муравьиные травинки и прочую насекомую жизнь, а потом повернуться и смотреть в высокое синее небо.
Смотреть в оправленное хвоей или золотым переплеском листьев небо, еще полное томления сердца и щемящих надежд, и радостно молчать, как счастливо безмолвствуют те, чье молчание оберегает истину, не искаженную словами.
Отечество беспамятное, неужели я придумал тебя и понапрасну растратил на тебя сердце? Где же ты - разве лишь в скудной памяти моей, сумевшей утешиться и безответной любовью? В любой осени, в любой другой чужбине различу и узнаю тебя, но есть же предел и твоему беспамятству? Для чего опять расточаешь ты несочтимые труды наши?
Происходящее и nature morte, с цветами и морковью
Они вот говорят, что перед кончиной человек со всею яркостью вспоминает все предбывшее, в единое мгновенье заново проживая все свое земное, и без того (правда, Господи!) чересчур скоротечное существованье. Стыдные картины жизни, наверное, заново и во всей силе обливают сердце крутым кипятком совести и бурлящей смолой покаяния, и память, ища пятого угла, с какою бы отрадой укрылась в чистых воспоминаньях, какие, вопреки всему, насчитываются, хоть бы и по пальцам, в живом еще памятном осязании самого пропащего человека.
Не перечислить нам скорбного стыда, но счастливая радость, пусть и не осознанная вовремя, может же быть сосчитана в разумной конечности бытия? А среди этой радости, нечувствительно определившей всякое направление жизни, есть, наверное, одна-единственная, какою ты впоследствии так плохо и неумело воспользовался, но благодаря которой и остался тем, что ты есть, и еще можешь в приближении бесплотности отчаянно надеяться, что и тебя, как многих иных, простит и помилует сила, подарившая тебе эту радость - блик, искру, отсвет и отраженье своего необъятного милосердья.
Так стоит ли доживаться до смерти, дожидаясь сравнительно простой возможности - вспомнить эту первопричинную радость существованья? Конечно, и половины в себе не ведаешь, за что в итоге взыщется, но ведь, пожив и помучась, все же и знаешь уже, и догадываешься, что среди разнообразного стыда и безутешного труда жизни совсем мало отыщется полных дней, часов или даже минут, которые могли бы, не возмутив памяти, вернуть чаемое утешенье, а то и сочувственный покой душе, по-детски испуганной предстоящей ей невозвратностью.
Вот, говорят они еще, что во исполнение земного долга вменяется человеку посадить дерево, продолжить род и написать книгу. Не всем, ясное дело, дано, не изведясь от несовершенства, обрести радость во втором и третьем, но вот дерево я однажды точно посадил. Руками помню, как под попечением совсем еще молодого отца втыкал в сырую землю живой черенок - тополевую ветку, заранее пустившую в поллитровой банке крохотные белесые корешки. Помню, как принялась эта ветка, и зазеленела, и потянулась ввысь подле стоящей на выложенных из силикатного кирпича опорах деревянной, кругом застекленной и обсаженной между тем также и кустами сирени веранды первого в моей жизни отческого дома.