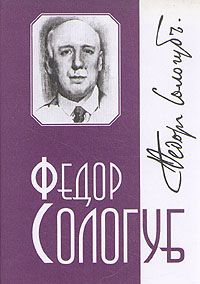Федор Сологуб - Том 3. Слаще яда
– Да и ни к кому не пойдет, – с глупым хохотом сказал Соснищев.
– Нет, – возражал Кошурин, – есть собаки, облеченные человеческою душою. Высунутый язык – неложный знак их вечной жажды.
Вести Шаню в квартиру Кошурина Евгений не захотел. Боялся чего-то или ревновал. А показал бы Шанин танец Евгений с великим удовольствием. Потому так огорчил его Шанин отказ.
Евгений решился перехитрить Шаню и показать ее своим друзьям так, чтобы она этого не знала. И друзья согласились.
– Что ж! – сказал Соснищев, – если нельзя смотреть, будем подсматривать. И то лакомо.
Граф Лапчистый, бледный, высокий молодой человек с водянистыми глазами и надменною усмешкою вялого рта, презрительно сказал:
– Я бы предпочел смотреть открыто. Подсматривать мне еще никогда не приходилось, за исключением одного случая, о котором я не хочу говорить в связи с вашею подругою.
Этот юноша смотрел сверху вниз почти на все человечество. Ему казалось, что графский титул действительно имеет возносящую силу.
Почти все окружающие его поддавались гипнозу его самоуверенной презрительности и смотрели на него как на стоящего выше.
Так смотрел на графа Лапчистого и Евгений. И потому он очень дорожил тем, чтобы граф пришел смотреть на Шаню. А то было бы обидно, – все пришли, одного только графа не было.
Евгений уговаривал графа:
– Я вас очень прошу прийти, граф. Потом, когда она привыкнет, в ней уже не будет этой грации стыдливой девушки, воображающей, что она одна. Вы увидите, что она вам очень понравится. Вы не будете жалеть потерянного времени.
Граф Лапчистый пожал плечьми и сказал, пренебрежительно выдвигая нижнюю губу:
– Если вы непременно хотите, хорошо, я приду.
Евгений расцвел и долго благодарил графа. Пока тот не отвернулся от Евгения и не заговорил с другими.
Шаня и Евгений вечером приехали в ресторан «Эрмитаж». Заняли номер, заранее заказанный Евгением. Были поданы устрицы и шампанское. Когда лакеи ушли, Евгений пристал к Шане с просьбами:
– Шанечка, милая, танцуй. Душа моя совсем высохла в этой ежедневной прозе. Я жажду восторга, который дают мне твои танцы.
Шаня выпила бокал холодного вина и принялась развертывать свою тунику. Евгений нетерпеливо, дрожащими пальцами расстегивал крючки ее платья.
В соседнем кабинете было тихо. Там таились приятели Евгения. Они ждали зрелища. Кошурин тихо говорил:
– Сегодня, если хотите, мне близко безумие всего. Но грустно быть близко, действительно себя забывая, и горько проникнуть в сухое течение вещей. Миллиарды сверкающих светил, замирая, тонут в вечный кристальный холод, металлизируя могучую неподвижность вечности.
Из смежного кабинета послышались звуки музыки, – Евгений сел за пианино и играл для Шанина танца. Его приятели, ступая тихонько по коврам, поспешили к стене, – в ней и в дверях были заранее проверчены отверстия. Гнусно притаившаяся компания прильнула к этим щелям. Тот, кто вошел бы теперь в кабинет, увидел бы словно повешенную на стене гирлянду плоских затылков, однообразно причесанных на прямой пробор.
Все замерли и смотрели. Граф Лапчистый, очутившись носом к стене, уронил с лица скучающее, презрительное выражение, и губы его улыбались нежно и ласково, как губы милого ребенка, который смотрит на что-то приятное, близкое ему. Шаня танцевала с увлечением. Не очень искусное бренчанье Евгения преображалось ее стремительною мечтою, и ей казалось, что она слышит звуки дивной музыки, уносящей душу ее в блаженный рай. Тусклые стены кабинета исчезли, сожженные быстрым кружением танца Море света струилось вокруг Шани, и, казалось ей, где-то невдали шумели, о пустынный берег плещась, морские широкие волны.
Шаня сбросила тунику. Ее обнаженное, слегка похудевшее и оттого еще более обольстительное тело казалось стремительным и воздушно-легким. От радостной работы танца Шанина кожа краснела, являя все разнообразие желтовато-розовых оттенков и алых, как будто изобилие лилий и роз расплавилось в одном пламени, кружащемся и упоительно-зыбком. Черные косы ее развились и прядали по спине и по плечам.
Побледневший от волнения Кошурин, томно мерцая большими от атропина глазами, шептал:
– Мы когда-то кружились в звездных вихрях. Мы когда-то молчали в мертворожденных камнях.
– Молчите и теперь, – презрительно сказал граф Лапчистый.
Сказал тихо, но не тише, чем всегда говорил, – не дал себе труда шептать.
Соснищев угодливо фыркнул. Трепет улыбки пробежал по всей гирлянде затылков и по всей цепи согнутых черных и синих плеч: нельзя же не улыбаться, когда шутит граф.
В это время Евгений взял неверную ноту. Шаня остановилась, как схваченная в стремительном беге чьею-то холодною рукою. Ее поразил странный шорох где-то близко, за стеною. Она еще не успела понять, что случилось, но словно померк тот свет, в колыхании которого она кружилась. Пыльные тяжелые портьеры словно только что упали между Шанею и тем неведомым краем, куда она была восхищена очарованием танца, – и все предметы вокруг стали внезапно отвратительными и страшными.
Шаня метнула быстрый взгляд на Евгения и замерла в страхе. Ей показалось, что она видит отвратительное лицо Гнуса, опять затлевшееся похотью и жадностью.
Это длилось только секунду, – опять перед нею было восторженно улыбающееся лицо Евгения, – и Шаня подумала, что у нее закружилась голова от пляски и потому видится то, чего нет, и в глазах двоит.
А этот шорох? Послышался? Нет, она слышит его и теперь, – шорох за стеною, шепот, смех. Но все это тихое, не так, как бывает чужой разговор в соседней комнате. Что-то таящееся и потому страшное.
Шаня вдруг догадалась о чем-то. Она багрово покраснела. Задрожала.
– Там смотрят, – сказала она тихо. – Там кто-то есть. Евгений сказал уверенно:
– Ну, вздор какой! Кому там быть! Ведь ты слышишь, что там совершенно тихо.
Шаня вдруг вспомнила, что она голая. Она бросилась за портьеру, отделяющую часть кабинета, и там поспешно одевалась, не слушая и не слыша, что говорит Евгений. Она вся утонула в одном широком, жутком ощущении стыда. Руки ее дрожали, но движения были привычно-ловкими и скорыми. Оделась и подошла к зеркалу поправить волосы и приколоть шляпу. Из зеркала глядело на нее пылающее лицо с испуганными и стыдящимися глазами.
Евгений уговаривал ее:
– Посиди хоть немного, Шанечка. Выпей вина. Шаня тихо сказала:
– Голова болит. Нет, не удерживай, я не могу. Мне надо на воздух.
Евгений проводил Шаню до дому. Шаня шла быстро, почти бежала и почти ничего не говорила. На углу своей улицы обняла и поцеловала Евгения и побежала домой.
Евгений вернулся к товарищам. Друзья встретили его хором похвал, как будто бы он был автором этой очаровательной плясуньи. Евгений принимал эти похвалы с такою же скромною гордостью, с какою слушает комплименты автор очаровательной поэмы.
Особенно понравилась Шаня графу Лапчистому. Но граф Лапчис-тый не говорил Евгению комплиментов. Он молча смотрел на Евгения. В бесстрастном взгляде его водянистых глаз отражалось высокомерное презрение.
Наконец Евгений спросил его:
– Что вы скажете, граф, о моей Шане?
Надменный юноша едва усмехнулся и процедил сквозь зубы несколько слов:
– Что скажу? Этот самородок так хорош, что его надо было смотреть открыто. Вообще, женщин или уважают и тогда за ними не подсматривают, или… ну, или их просто заставляют.
– Но ее не заставишь, она упрямая, – оправдывался смущенный Евгений.
– На упрямых есть хлыст, – спокойно возразил граф Лапчистый и заговорил с Фогельшнелем.
Евгений хихикал и с очень глупым видом потирал руки.
Шаня вернулась домой, совершенно подавленная тем, что произошло. Боялась думать о том, что подсматривали за нею, по всей вероятности, товарищи Евгения. Но мысль ее упрямо возвращалась к тому же, все разговоры последних дней, все поведение Евгения убеждали ее, что это подсматриванье было с его ведома.
Юлия видела, что Шаня расстроена. Но на все ее вопросы Шаня отвечала:
– Да ничего, Юлечка, голова немножко болит. Лягу, пройдет. Привыкла все рассказывать Юлии, а этого не могла рассказать. Ночью Шаня бредила. Бормотала:
– Шанек-то сколько нашло!
Испугала Юлию, – та уже хотела было посылать за врачом. Да побоялась будить отца, решила подождать до утра.
А утром Шаня проснулась бледная, с испуганною душою. Вспоминала, не понимая, что именно случилось. Так страшно было именно то, что лицо Гнуса назойливо вставало в памяти вместе с лицом Евгения, и казалось, что оба эти лица похожи.
Пошла к Манугиной. Рассказала ей и долго плакала. Манугина утешала ее. Сказала:
– Шанечка, может быть, хоть у одного из этих шалопаев в душе было светло и невинно, когда он смотрел на твой танец, – и то уже победа.