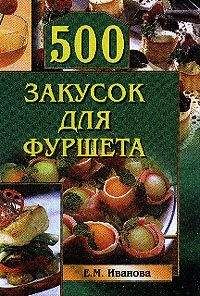Андрей Соболь - Человек за бортом
Лаяли мопсы, из соседнего номера вопили: «Уймите собак»; стоя на коленях, княжна София расшнуровывала отцовские башмаки.
Княжеская рука, задрожав, опустила ендову — ее подхватил сахарозаводчик Зусин:
— Господа! Хотя я наполовину сионист, но я люблю Россию. Господа, мы — люди дела, практики — не умеем говорить. Но… господа, я пью. Господа, в тот час, когда на углу Ильинки встанет шуцман, я все свое состояние…
— Урра!
— Телеграмму! Послать телеграмму!
— Урра!
Уже хохоча без удержу, размыв столики, как берега ненужные, излишние, Терентий Нилов вскочил на стул; островерхая голова стрельнула к потолку, расхлыстанный крик взвился:
— Эй!.. За зулусов! За готтентотов!.. Люди русские, черт вас подери, за команчей, за сенегальцев, за малайцев у ворот Кремля… Эй!..
Официальная часть кончилась — отъезжали коляски с сенаторами, с адвокатскими светилами, с действительными статскими, тайными, с знатоками римского права, церковного. Моня помогал Аркадию Аполлоновичу облачиться, профессорша безуспешно боролась с лавровым венком: он, твердый, точно из жести, не влезал в портфель, профессорша нервничала — начиналась мигрень.
Лакеи шмыгали с дежурными блюдами, стыдливо отвернувшись, орудовали штопорами; гукали пробки; в уборной над фаянсовыми унитазами уже изнывали истошно напруженные шеи: с эстрады Оскар Днепровский, плосколицый, точно с пеленок выструганный, звал на борьбу святую, на борьбу с новой татарщиной, под стяг, к Дорогомиловской заставе; зубные врачи пели хором:
Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой…
Глава восьмая
Кротко ответил:
— Не пойду! — И было ясно: не уговорить его, не убедить.
Рыжик свесил голову; шейка худенькая, точно леса — заболталась головка, будто по ряби к вечеру шевелился поплавок — так, еле-еле… В комнате темнело, рябился день уходящий.
— Все это ни к чему, Рыжик. Вы где-то, а я нигде. О чем говорить? Скажи им всем: пусть оставят меня в покое. «А» говорит Асаркисов тут, «б» бубнит Корней в Москве, и Мальвина кстати тянет со слезой «и-и», Беатриса Ароновна по пальцам пересчитает мне все буквы закона. А я, Рыжик, весь алфавит перечеркнул вдоль и поперек — был закон, и нету его: скапутился, ножками задрыгал и помер. Не скрою, покойничек крепкий был: дрыгая, так меня смазал, что не знаю, Рыжик, когда все ссадины заживут.
Под рябью окончательно скрылся поплавок — стиснул Рыжик ладошки, а ладошки мокрели — ушла головка в плечи, плечи будто в живот, дальше некуда: скрючился.
— И может — и не заживут. И не надо: пусть ноют ссадины, пусть покою не дают до гроба. Но алфавита не хочу. Довольно. Был я ученик прилежный, назубок знал все буквы — в Париже штудировал, в Женеве зубрил и… Вот сломал себе зубы… Пусть оставят беззубого в покое. На что вам шамкающий? Вам — ведь вы-то уверены, что все зубы у вас на месте, убеждены, что разгрызете орешек московский. А орешек-то здоровый, ядреный, правда? Номер неожиданный, все расчеты опрокинул?
Рыжик молчал; поперхнулся было, точно натянулась леса, чтоб подсечь, выудить — и опять вяло повисла.
— И успокой их: к другой грамоте не припаду прозелитом жадным. Даже если бы захотел — поздно: весь разворочен, места живого нет. Есть такая штука, что разворачивает. Имя этой штуке простое: революция. Не по бумажке и указке, а идущая, как землетрясение: тысячью скважин. Такая, что к Асаркисовым за справками не обращается. Такая, что не спрашивает, веришь ли ты в личность или в некий железный закон, а просто берет за загривок и бац личностью в железный хребет. А он такой, что надвое мир рассекает, от полюса до полюса… И… Или ползи по хребту, отвоевывай каждый уступ, утверждай путь кровавый. Или трупом живым несись по волнам, плавай, пока тебя раки не слопают. Поздно, даже если бы… А может быть, хочу? А может быть, тянусь к ним исступленно? К ним — к конквистадорам московским, к черному хлебу ихнему — добыче российской, — минуя все калачи, расстегаи. Молчишь, Рыжик, молчишь?
Потянулся к плечикам, будто в воду опущенным, — встряхнуть их, к себе повернуть, — и в глаза, в глаза, знакомые по Сибири, по этапкам, по парижским закоулкам, по мартовским митингам петербургским, плеснуть диким хохотом, чтоб и те — другие — встрепенулись, заныли, потемнели и разделили пополам боль непосильную, крутую, не по глазам одним, не по плечам одним, — и отнял руку, не дотянувшись:
— Иди, Рыжик. Все прилично будет — мне ли не знать наших приличий. Утешь Асаркисова: «Азбуку коммунизма» шорникам и слесарям растолковывать не буду. Успокой Беатрису Ароновну: в следователи на Лубянке не собираюсь. Иди, Рыжик, иди.
А Рыжик подполз тихонечко — боком, все боком подвигался, не глядя, поплавки не выуживая, и обнял Игоря.
Маленькая ручонка, не то детская, не то девичья, раз-другой, рыбешкой, выплеснутой на берег, затрепетала — и застыла, обвившись вокруг шеи Игоря.
— Товарищек!.. Помнишь, как ты меня впервые в Якутске прозвал… Товарищек, Игорь…
— Ну что, ну что, Рыжик?
— Что будет с тобою?
— Не знаю, не знаю, Рыжик.
На миг дрогнула шея, словно в спазме, но мигом спохватилась: по-прежнему натужная, литая.
— Товарищек, Игорь…
— Ну что, ну что, Рыжик?
— Зачем ты приехал сюда?
— За нею, Рыжик. За нею. Не знаю, для чего, но ищу ее. Не найду ее тут — к югу двинусь, к бесу на рога, но разыщу ее.
— Кого? Кого?
— Единственную, Рыжик. Белую деву… синюю птицу… красный цветок…
— Ты издеваешься надо мной?
— Вру, знаю, для чего ищу. Потому, что все азбуки прахом. Потому, что все переплеты в мусорный ящик. Ни бе ни ме, не осталось даже крестика по неграмотности.
— Игорь… Ведь это банкротство, яма. Господи, и какой ты бедный, бедный…
— А ты, Рыжик, ты богатый…
Осторожно, боясь быть резким, Игорь снял с себя завядшую ручонку и приподнялся. И рядом вскочил Рыжик.
Метался по комнате, бил себя кулачком в грудь; рыжий хохолок вздыбился, прыгали брови, ножки в узеньких брючках, срывался голосок: то катился вниз, будто по ступенькам рассыпались полые горошинки, то карабкался, забираясь кверху, кверху, точно к спасительной перекладине, чтоб с перекладины паутиновой снова сорваться, снова рассыпаться, снова покатиться…
— А… вот замолчал на минуту, тебя пожалел, чтоб не сразу ударить… А ты по-своему объяснил. Нет, врешь, врешь — богатый! В тысячу раз богаче тебя. Верю в социализм, верю в Учредительное Собрание. Ага, ага, верю, верю! В мужичка верю, в русскую правду верю. А, а, ошибся, товарищ Игорь. Богатый, богатый! Хотя бы ненавистью своей богат! У тебя и этого нет. Знаю: попрошайничать будешь. А я умирать буду — плевать буду в хари их. За все!
За родину мою загаженную… За расстрелянных, в подвалах умученных. Не прощу им. Ни одного из списка! Не любил, никогда не любил военных. Всегда от шпор держался подальше — шляпа. Но ни одного офицера им не прощу. Улыбайся, улыбайся, нищий: ни одного купца. Да, да, ни одного заложника, хотя бы валютчика. Всех забрал в себя. Людей русских, душ жертвенных. Все они тут. Тут в мозгу, в душе. Кровью изойду, а за кровь, за деревню расплачусь. Богат! Богат! В миллион раз богаче твоего. Нищий, убожество свое какой-то синей птицей покрываешь. Плевать мне на твою синюю птицу, когда в России ворон едят. Всю Россию искромсали. А, а!.. Ты от себя подальше: Рыжик замолчал, Рыжик, мол, такой же нищий. Врешь, Рыжик богат! Рыжик не поддастся. Захлебнется, а плюнет в хари… Плюнет! Плюнет!..
Игорь искал пальто; Рыжик вцепился в рукава:
— Не пущу!
— Выпей стакан воды, — тихо сказал Игорь. — Это полезно. — И выпрямился: довольно, вон из комнаты — к шуму, к стуку колес, к чавканью, к паштетным, к проституткам, к черту, к дьяволу, но только подальше от кисельных комнатных сумерек, от сентиментальных объятий.
Оттолкнул Рыжика от двери — к кабакам, к липким стаканам, к горластым глоткам, к дрянненьким куплетцам, к собакам — все равно, но подальше, подальше от кликушествующих комитетчиков, жалостливых словечек… Кисельные сумерки, кисель, размазанный по тарелке, — благодарю, я сыт!..
В «Шато де-роз», показав бедра и все прочее, упорхнула голубая юбочка, и алчно замычали разверстые рты, похожие на развороченные помидоры; выскочил негр — отбивали дробь белые туфли, над белыми туфлями лезли из орбит вытаращенные белки, лоснился полированный лоб под курчавым мелким кустарником. В «Московском Яре» боярышня в кокошнике, сложив на животе пухлые руки, словно сдобные булки уложила на поднос, пела о доблестном православном христолюбивом воине; женщины взвизгивали «браво»; распирая жилетки, колыхались студни, поглощая антрекоты, шнитцели, прополаскивая антрекоты, шнитцели и сосиски багровым бургундским, розовым кахетинским.
В «Уголке Стрельны» другая боярышня в кокошнике, помахивая трехцветным флажком, уносилась павой от усатого парня в высоких болотных сапогах, в грязном гусарском ментике поверх кремовой егеровской фуфайки; гусар, тяжело припадая к полу, хрипел: