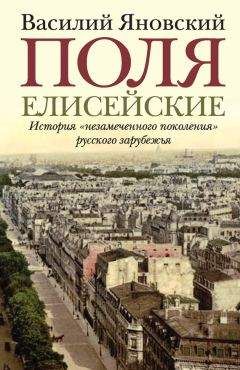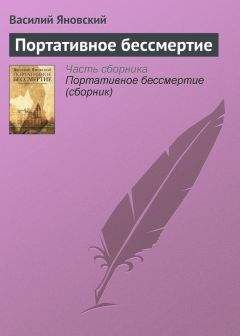Василий Яновский - Поля Елисейские
И объясняется это совсем не тем, что Достоевский - мистик, а Салтыков-Щедрин - либе-рал, или наоборот.
Зависть - вполне реальная и общечеловеческая черта. После грехопадения, зависть, рев-ность, честолюбие подтачивали не только русскую, всеобъемлющую душу. Но к западу и к югу от Рейна, в особенности в англосаксонском мире, всем ведомо, что если один модный писатель начнет подсчитывать промахи другого, то делает он это совсем не по соображениям благородной незаинтересованности. (Даже ссора молодого Толстого с Тургеневым пример того же порядка.)
Зная все это инстинктом воспитанных людей, англосаксонские писатели вообще воздержива-ются от критических выступлений по адресу своих соперников.
Впрочем, кроме низкого уровня культуры и дурных русских нравов, тут налицо еще одно обстоятельство, которое следует отметить... Судя по свидетельству весьма авторитетных, хотя и заинтересованных лиц, никто по-русски не пишет правильно. Получается, что грамотно на нем пока еще невозможно изъясняться: иными словами, этот язык еще находится в стадии образова-ния, развития.
Великим, могучим, совершенным я назову язык, который знают в совершенстве академики, а не мужики; великий, могучий, культурный язык должен иметь вполне законченный академиче-ский словарь, переиздающийся с дополнениями каждые пять-десять лет... (Старое издание можно купить на рынке за гроши.) Увы, это все достояние только англичан, французов, американцев. (Кстати, архаичный Даль ценился тогда на вес золота.)
"Колесо" прибыло из Берлина, где печаталось, и Осоргин пошел со мною в книжный магазин "Москва"; он один догадывался, что творилось с Яновским, сам я не понимал, что счастлив.
Парижская сырая зима, мокрые улицы возле Медицинской школы; рядом со мною заслужен-ный писатель: стройный, - хочется сказать гибкий, - в какой-то заграничной, итальянской широкополой шляпе, весьма похожий на Верховенского (старшего). На рю Мэсье-ле-Прэнс мы вошли в бистро и выпили по рюмке коньяку, трогательно чокнувшись. Все, что мы тогда делали, я теперь понимаю, было частью древнего ритуала.
В "Москве" нас встретил озабоченный и вовсе не романтической наружности гражданин с бритой головою и в тесном берете. Нам вынесли высокую стопку "Колеса" - живые, еще пахну-щие типографией листы. Заглавие на обложке было набрано западным шрифтом: буква "л" оказалась опрокинутым латинским "v"... Это была идея Осоргина, и он гордился ею.
Я же считал все вопросы касательно обложки, красок и расположения текста смешными, не относящимися к сути дела.
Михаил Андреевич достал из кармана список лиц, которым я должен был, по его мнению, послать книгу, и я начал вкривь и вкось выводить - "на добрую память... с уважением". Забавно, что Ходасевичу, с которым Осоргин пребывал в ссоре, мы не послали "Колеса".
В серии "Новые Писатели" до меня вышла еще книга Болдырева "Мальчики и Девочки". Предполагался еще "Вечер у Клэр" Газданова, но Черток перебежал дорогу и получил рукопись для своего издательства ("Парабола").
Газданов, маленького роста, со следами азиатской оспы на уродливом большом лице, широ-коплечий, с короткой шеей, похожий на безрогого буйвола, все же пользовался успехом у дам. В литературе основным его оружием, кроме внешнего, словесного блеска, была какая-то назойливая, перманентная ирония: опустошенный и опустошающий скептицизм.
Я никогда не мог признать самостоятельной ценности юмора и сатиры. Помню, как я возли-ковал, когда впервые услышал от Шестова:
- С каких это пор смех - аргумент?..
Болдырев, вскоре после издания своей повести, покончил самоубийством. (Звали его еще, кажется, Шкотт: мать его была шотландкою, что ли...)
С мягким, в общем, очень русским лицом, светлоглазый, медлительный Болдырев начинал всецело под литературным влиянием Ремизова. Он считался отличным математиком и давал частные уроки по этому предмету, чем и кормился. Изредка я его встречал на Монпарнасе в обществе одной не знакомой мне девицы. Однажды я ему сообщил, что предполагается издание нового журнала - не хочет ли он принять участие...
Болдырев посмотрел на меня удивленно, с натугою (в 1941 году в Монпелье я узнал этот взгляд у Вильде, когда я попросил его передать друзьям в "Селекте" привет).
- Нет, это не для меня теперь, - медлительно ответил Болдырев. - Нет, это не для меня.
Мы постояли молча еще с полминуты и разошлись навсегда: через несколько дней он покон-чил с собой. Как мне потом передавали, Болдырев давно уже хворал, и доктора его уверили, что ему угрожает полная потеря слуха... Глухой, как же он проживет? Это конец. Культивируя в себе английскую отчетливость и шотландское уважение к разуму, он решил, что надо делать безжало-стные выводы. И принял соответствующие порошки в надлежащем количестве.
Сколько их, людей, особенно литераторов, погибло на моей памяти, запутавшись в дебрях ложной жизненной или художественной школы. Думаю, что даже весь русский серебряный век мог бы оказаться удачею, если бы только его главные герои - Вячеслав Иванов, Бальмонт, Брю-сов, Сологуб, Андреев и многие другие - не следовали упрямо за выдуманной ложной школой... А в 19 веке все эти ходоки в народ и певцы заплатанных овчин - от Гоголя до Горького - сплошная жертва собственного, добровольного социального заказа.
- Я не порицаю его, - говорил, волнуясь, Осоргин, закуривая очередную папиросу с русской гильзой, - он прав! Что бы он делал здесь глухой, в этом возрасте? Клянчил бы в Союзе Литераторов?
После панихиды я очутился в обществе двух странных поэтов: Кобякова и Михаила Струве. Объединяла их необычная черта - оба уже пытались кончить самоубийством, но их как-то отхаживали. В "Последних новостях" даже напечатали некролог Андрея Седых, посвященный М. Струве.
- Ошибся маленько Болдырев! - сказал, будто крякнул, Кобяков, и его огромный кадык на тонкой шее дернулся, словно клюв. - Пяти минут не рассчитал Болдырев!
- Да, - рассеянно согласился Струве. - Я тоже так понимаю.
Спорить с этими специалистами не хотелось; что-то их пугало и обижало в решительном прыжке Болдырева.
Таким образом, вся серия "Новых Писателей" фактически свелась к одному Яновскому, и Осоргин сохранил некую отеческую нежность ко мне. Дал все адреса своих переводчиков, и в итоге "Колесо" начали переводить. По-французски оно вышло под заглавием: "Sachka I'Enfant gui a Faim". Только с течением времени, получив некоторые "мертвые" указания от других писателей, я смог оценить услугу Осоргина.
По его совету, я послал "Колесо" Горькому в Сорренто и получил он него два письма, вскру-жившие мне голову.
В Монпелье однажды Александр Абрамович Поляков, которого я посвящал в тайны белота, передал мне пакет черных маслин, присланных ему Осоргиным, сам Поляков этих залежавшихся оливок не мог или боялся есть.
Я маслины использовал вполне, вымочив их предварительно в вине, и черкнул Осоргину несколько слов благодарности. Получил в ответ длинное письмо - это была наша последняя "встреча".
В Нью-Йорке я узнал о его кончине. Радуюсь, что он умер в родной Европе, в виду Луары, под благословенным галльским небом. Осоргин любил описывать прелести родной Оки или Камы. Но жил он на тех берегах едва ли больше десятка лет. И есть у меня думка: Осоргин в Москве завыл бы от тоски. (Как и многие подлинные эмигранты: Герцен, Тургенев, Гоголь - все разные и в чем-то схожие.)
Мне кажется, что большинство безобразий в истории России объясняются ее отвратительным климатом. Поэты обманывают обывателя, воспевая снега, и мороз - красный нос, и лихую тройку с бубенцами, и жаворонка (высоко, высоко) в синем небе. А ведь, вообще, господа, паскудно жить в России метеорологически говоря!
Кстати, периодический голод, поражающий Русь ( как и Китай) со времен Ивана Калиты до Никиты Хрущева включительно, пещерный голод этот объясняется в значительной мере ее клима-том. Подумайте, друзья, ведь есть страны, где собирают ежегодно по два-три урожая. (И березку там не почитают как священное деревцо.)
На пасху я получил письмо от Алексея Михайловича Ремизова - в ответ на мое "Колесо". Трудноразбираемая, своенравная кириллица удостоверяла: "У Вас есть лирика, без нее не знаешь как прожить на этой земле"... Затем следовало приглашение: такой-то день, такой-то час.
Все воспоминания о Ремизове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женс-кий платок или кацавейку, с тихим внятным голосом и острым, умным взглядом... Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Руаяль и проводило в комнаты.
Но увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто, часто я просто не мог смотреть Ремизову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все опреде-леннее, я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремизове и в его окружении... Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. По существу, и литература его не была лишена манерной, цирковой клоунады, несмотря на все пронзительно-искренние выкрики от боли.