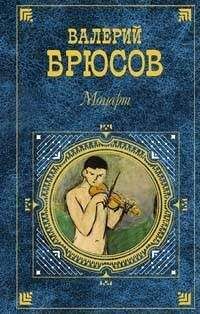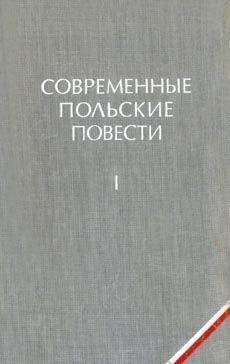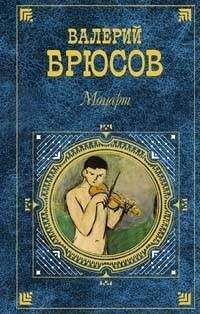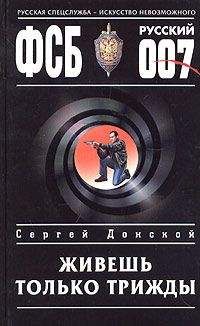Генри Джеймс - Американец
Ньюмен не давал бурного выхода своим чувствам, не произносил сентиментальных речей, не переступал границу, за которой, как дала ему понять мадам де Сентре, начиналась область, пока еще запретная. Тем не менее у него было приятное ощущение, что день ото дня графиня все лучше и лучше понимает, как он увлечен ею. Не слишком разговорчивый от природы, он вел с нею долгие беседы, и она невольно рассказала ему о себе многое. Он не боялся наскучить ей ни своими разговорами, ни молчанием, а если иногда ей и становилось с ним скучно, она, пожалуй, еще больше ценила его за непосредственность и отсутствие тягостной стеснительности. Навещавшие мадам де Сентре визитеры часто заставали у нее Ньюмена — этот высокий, худощавый человек, непринужденно развалившийся в кресле, обычно сидел молча, но иногда вдруг издавал смешок, когда, с их точки зрения, ничего смешного не говорилось, и, наоборот, сохранял серьезность, когда при нем произносили заранее отточенные остроты, которые он, в силу недостаточной образованности, очевидно, был неспособен оценить.
Нужно сознаться, что Ньюмен не имел представления о множестве вещей, и добавить, что он и не пытался обсуждать то, о чем не имел представления. Он плохо владел искусством светской беседы, и в его арсенале имелось слишком мало расхожих фраз и общепринятых выражений. Зато слушать он был готов всегда с большим вниманием, а интерес его к предмету разговора диктовался вовсе не тем, сколько умных фраз может сказать по данному поводу он сам. Он почти никогда не испытывал скуки, и признать его молчаливость за дурное расположение духа было бы большим заблуждением. Однако, что интересного находил он в подобных собраниях, на которых лишь молчаливо присутствовал, мне, откровенно говоря, не вполне понятно. Правда, как уже известно, множество старых историй, набивших оскомину большинству, для Ньюмена имели прелесть новизны, и мы, вероятно, изумились бы, изложи он перечень того, что именно его в них поразило. Но с мадам де Сентре он разговаривал часами: рассказывал ей о Соединенных Штатах, знакомил с тамошними порядками, с обычаями, принятыми в деловом мире, и с правилами ведения дел. Судя по всему, ей это было интересно, хотя прежде предположить такое никто бы не мог. Относительно же того, что она и сама не прочь поговорить о подобных предметах, у Ньюмена сомнения не возникало, и это являлось приятной поправкой к портрету, который когда-то набросала ему миссис Тристрам. Он обнаружил, что мадам де Сентре по натуре чрезвычайно жизнерадостна. И как ему показалось с самого начала — застенчива. А застенчивость у женщины, чья спокойная красота и положение в обществе позволяли ей вести себя как вздумается, оставаясь, разумеется, в рамках благовоспитанности, только усиливала ее очарование. На первых порах мадам де Сентре смущалась и с Ньюменом, но потом стеснительность улетучилась, хотя в ее манере еще некоторое время угадывалось нечто, словно бы знаменующее сдержанность. Быть может, причиной тому был некий печальный секрет, о существовании которого подозревала миссис Тристрам и на что она намекнула, восхваляя сдержанность, глубокую натуру и прекрасное воспитание мадам де Сентре. Правда, тогда намек показался Ньюмену весьма расплывчатым. Вероятно, причина некоторой замкнутости мадам де Сентре заключалась именно в этом таинственном обстоятельстве, но Ньюмена все меньше и меньше заботило, какие секреты у нее могут быть, он все больше и больше укреплялся во мнении, что секреты нисколько не вяжутся с ее характером. Ее стихия — свет, а не тень, и по природе своей она склонна отнюдь не к загадочной сдержанности и интригующей меланхолии, она — натура открытая, жизнерадостная, кипучая, деятельная, и задумываться ей положено лишь ровно столько, сколько необходимо, ничуть не больше. И, по всей видимости, ему удалось вызвать к жизни эти ее свойства. Ньюмен чувствовал себя наилучшим противоядием от всех гнетущих секретов, ведь его главной целью было обеспечить ей радостное, лучезарное существование, при котором и нужды ни в каких тайнах не будет. По желанию мадам де Сентре он часто проводил вечера в неприветливой гостиной старой мадам де Беллегард, где утешался тем, что сквозь полуопущенные веки наблюдал за дамой своего сердца, которая в кругу семьи всегда старалась разговаривать с кем угодно, только не с ним. Мадам де Беллегард, сидя у огня, сухо и холодно беседовала со всеми, кто к ней подходил, а ее беспокойные глаза медленно оглядывали комнату, и когда этот взгляд падал на Ньюмена, он испытывал странное ощущение, будто на него внезапно пахнуло сырым, леденящим ветром. Каждый раз, здороваясь и пожимая руку старой маркизы, он, смеясь, спрашивал, «выдержит ли она» его еще один вечер, а она без улыбки неизменно отвечала, что, слава Богу, всегда справлялась с тем, что ей диктует долг. Однажды, говоря о старой маркизе с миссис Тристрам, Ньюмен заметил, что, в конце концов, ему вовсе не трудно иметь с ней дело: с откровенными бестиями иметь дело всегда нетрудно.
— Следует ли понимать, что вы столь элегантно определяете маркизу де Беллегард? — спросила миссис Тристрам.
— Ну а как же, — ответил Ньюмен. — Она дурная женщина и притом старая грешница.
— В чем же ее грехи? — поинтересовалась миссис Тристрам.
— Не удивлюсь, если она даже убила кого-нибудь, разумеется, исключительно из чувства долга.
— Какие ужасные вещи вы говорите! — вздохнула миссис Тристрам.
— Ужасные? Помилуйте! Я говорю это, будучи к ней расположен!
— Воображаю, что вы наговорите, когда захотите кого-то осудить!
— Осуждение я приберегу для кого-нибудь другого, для маркиза например. Не перевариваю этого джентльмена ни под каким соусом.
— А он в чем провинился?
— Пока не знаю, но он совершил что-то отвратительное, что-то подлое и низкое. И в отличие от матери, ему не хватает отваги, которая сколько-нибудь искупала бы содеянное. Сам он, пожалуй, не убивал, но наверняка присутствовал при убийстве — стоял, повернувшись спиной, и смотрел в сторону, пока убивали другие.
Невзирая на эту оскорбительную для маркиза гипотезу, которую следует воспринимать лишь как проявление причудливого «американского юмора», Ньюмен всячески старался сохранять в отношениях с маркизом ровный и дружелюбный тон. Он терпеть не мог плохо думать о тех, с кем имеет дело, и для собственного спокойствия был готов пустить в ход воображение (наличия которого за ним не подозревали), чтобы на время убедить себя, будто водит знакомство с добрым малым. И к маркизу он старался относиться как к доброму малому, более того — искренне считал, что на самом деле тот вовсе не такой надутый индюк, каким кажется. Простота Ньюмена в обращении с людьми никогда не переходила в фамильярность, его убежденность в том, что все люди равны, проистекала не из агрессивной бесцеремонности и не из каких-то возвышенных теорий, скорее ее можно было сравнить со здоровым аппетитом, который, никогда не подвергаясь ограничениям, не перерастает в отталкивающую жадность.
Ньюмен не давал себе труда задуматься над сомнительным положением, которое он занимал в этом обществе, что, надо полагать, бесило маркиза де Беллегарда, подозревавшего, каким грубым и бесцветным представляется он своему будущему зятю — ничуть не похожим на тот внушительный образ, который месье де Беллегард выпестовал в собственном воображении. Однако он ни разу не забылся и с привычной любезностью отвечал на все попытки Ньюмена «подъехать» к нему. Ньюмен же только и делал, что забывался, он засыпал маркиза бесконечными легкомысленными вопросами и предположениями, то и дело обнаруживая, что его хозяин смотрит на него с ироничной, снисходительной улыбкой. «Какого черта он улыбается?» — недоумевал Ньюмен. Справедливо было бы предположить, что для самого маркиза улыбка являлась компромиссом между множеством владевших им чувств. Пока на его лице играет улыбка, он выглядит любезным, а быть любезным его призывал долг. Более того, улыбка ни к чему, кроме любезности, его не обязывала, причем степень этой любезности оставалась приятно неопределенной. Улыбка не выражала ни осуждения — это было бы слишком ответственно, — ни согласия, что могло бы повлечь за собой серьезные осложнения. И последнее — улыбкой маркиз поддерживал собственное достоинство, которое он положил себе во что бы то ни стало сохранять незапятнанным в критической ситуации, когда слава его дома начала клониться к закату. Всем своим поведением Беллегард, казалось, давал понять Ньюмену, что никакого обмена суждениями между ними быть не может, он даже задерживал дыхание, только бы не втянуть в себя запах демократии. Ньюмен был весьма несилен в европейской политике, но любил иметь представление о том, что происходит вокруг, и часто интересовался мнением маркиза де Беллегарда о положении дел в Европе. Маркиз отвечал ему с учтивой краткостью, что дела эти обстоят из рук вон плохо, что он о них самого низкого мнения и что времени подлее еще не бывало, век насквозь прогнил. После таких бесед Ньюмен на мгновение преисполнялся к маркизу чуть ли не состраданием, жалея беднягу за то, что мир кажется ему столь безрадостным, и при следующей встрече пытался привлечь его внимание к разнообразным замечательным чертам современности. На это маркиз заявил ему, что придерживается одного политического убеждения, которого ему вполне достаточно: он верит в священное право Генриха Бурбона — пятого по счету — на французский трон. Ньюмен ответил ему изумленным взглядом и больше не заговаривал о политике. Высказывание де Беллегарда не покоробило, не шокировало, даже не насмешило Ньюмена, он испытал такое чувство, словно вдруг обнаружил странные вкусовые пристрастия маркиза — например, что тот обожает ореховую скорлупу и рыбьи кости. Узнай он такое, наш друг, разумеется, воздержался бы от дальнейшего обсуждения с хозяином дома гастрономических вопросов.