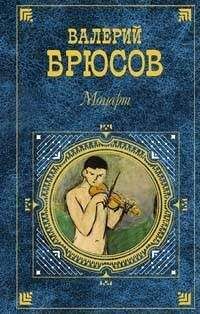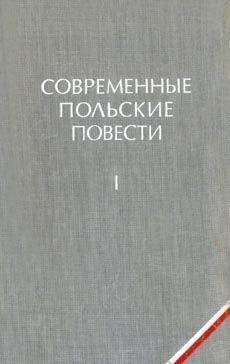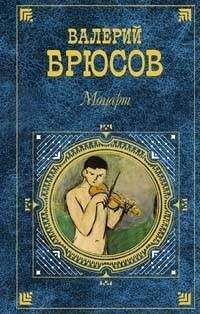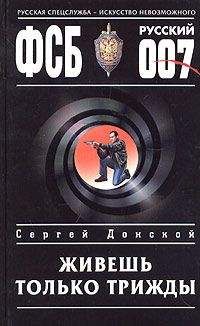Генри Джеймс - Американец
— Из того, что сказал мне месье де Беллегард, я не все понял, — ответил Ньюмен. — Но усвоил одно: вы предоставляете мне свободу действий. Очень вам признателен.
— Я хочу добавить кое-что, чего мой сын, наверное, не счел возможным сообщить вам, — заявила маркиза.
— Но чтобы совесть моя была спокойна, я должна сказать следующее: мы делаем для вас снисхождение. Оказываем вам большую честь.
— О, ваш сын достаточно ясно объяснил мне это. Не правда ли, маркиз?
— Не столь ясно, как объясняет моя мать, — ответил маркиз.
— Могу только повторить: я очень вам признателен.
— Полагаю нужным предупредить вас также, — продолжала мадам де Беллегард, — что я очень горда и привыкла высоко носить голову. Быть может, это нехорошо, но я слишком стара, чтобы менять свои привычки. Во всяком случае, я знаю за собой такие свойства и не притворяюсь, что я другая. Не тешьте себя надеждой, что моя дочь не столь горда. Она тоже горда, только по-своему. Вам придется с этим считаться. Даже Валентин горд, стоит только затронуть подобающую или, вернее, неподобающую струну. А уж то, что Урбан горд, вы и сами видите. Иногда мне кажется, что он слишком горд, но я не хочу, чтобы он менялся, он лучший из моих детей, он предан своей старой матери. Словом, я сказала довольно — вы поняли, что все мы — люди гордые. Вам следует знать семью, с которой вам предстоит иметь дело.
— Ну что ж, — ответил Ньюмен, — в свою очередь могу сказать, что я не гордец и поэтому обижаться на вас не буду. Но вы говорите так, словно намерены чинить мне неприятности.
— Я ничуть не радуюсь тому, что моя дочь выходит за вас замуж, и не стану прикидываться, будто радуюсь. Вы не в обиде на это? Тем лучше.
— Если вы будете твердо придерживаться уговора, нам не придется ссориться, — сказал Ньюмен. — Предоставьте мне свободу действий и не отговаривайте ее — вот все, о чем я прошу. Намерения у меня самые серьезные, и можете не сомневаться — я от них не откажусь и отступать не собираюсь. Отныне я постоянно буду у вас перед глазами. Если вам это не по душе, ничего не попишешь. Захочет ваша дочь принять мое предложение, я сделаю для нее все, что только может сделать мужчина для любимой женщины. Я счастлив дать вам такое обещание, даже не обещание — обет. Я полагаю, что и вы со своей стороны согласитесь твердо обещать мне — вы ведь не пойдете на попятный?
— Не знаю, что вы имеете в виду под этим выражением, — заявила маркиза. — По-видимому, действия, в которых ни один из Беллегардов еще не был повинен.
— Наше слово — слово чести, — проговорил Урбан. — И мы его дали.
— Превосходно, — отозвался Ньюмен. — Тогда мне очень кстати, что вы так горды. Я верю, что вы свое слово сдержите.
Маркиза немного помолчала.
— Я всегда буду учтива с вами, мистер Ньюмен, но не полюблю никогда, — заявила она.
— Не ручайтесь, — засмеялся Ньюмен.
— Ручаюсь! Я в себе уверена и даже попрошу вас проводить меня обратно, не опасаясь, что оказанная вами любезность смягчит мои чувства, — и, взяв Ньюмена под руку, мадам де Беллегард вернулась в салон, где заняла свое обычное место.
Месье де ла Рошфидель с женой уже собирались домой, и беседа мадам де Сентре с этой престарелой шамкающей дамой заканчивалась. Графиня стояла, оглядывая комнату, и, по-видимому, решала, с кем надо поговорить еще, но тут к ней подошел Ньюмен.
— Ваша матушка в весьма торжественном тоне разрешила мне посещать вас, — сказал он. — Теперь я буду у вас частым гостем.
— Я рада, — ответила она просто. И тотчас добавила: — Вам, боюсь, ее торжественный, как вы сказали, тон по такому мелкому поводу показался странным.
— По правде сказать, да.
— А помните, когда вы пришли с визитом в первый раз, мой брат Валентин сказал вам, что у нас — престранная семья.
— Только это было не в первый мой приход, а во второй.
— Совершенно верно. Тогда я рассердилась на Валентина, но теперь, когда мы с вами лучше знакомы, признаюсь: он прав. Когда начнете бывать у нас почаще, убедитесь сами, — и мадам де Сентре повернулась и отошла.
Некоторое время Ньюмен наблюдал, как она разговаривает с другими гостями, а потом и сам собрался уходить. Валентин вышел с ним на верхнюю площадку лестницы, он был последний, кому Ньюмен пожал руку.
— Ну вот, вам даровано желанное разрешение, — сказал Валентин. — Надеюсь, вы получили удовольствие от того, как это было обставлено?
— Ваша сестра нравится мне все больше и больше, — сказал Ньюмен и добавил: — И Бог с ним, с вашим братом. Я на него не сержусь. Боюсь, он набросился на вас, когда я ушел из курительной.
— Всякий раз, когда брат на меня набрасывается, он набивает себе синяки. У меня своя особая манера с ним разговаривать. Должен признаться, — добавил Валентин, — они с матушкой дали вам согласие гораздо быстрее, чем я ожидал. С чего бы это? А могли ведь хорошенько вас поизводить. Наверное, это дань вашим миллионам.
— Самая ценная из всех, когда-либо мною полученных, — сказал Ньюмен.
Он уже повернулся, чтобы уйти, когда Валентин, метнув в него лукаво-циничный взгляд, вдруг спросил:
— Хотелось бы знать, видели ли вы в последние дни вашего почтенного друга месье Ниоша?
— Он был у меня вчера, — ответил Ньюмен.
— И что он вам поведал?
— Да ничего особенного.
— А вы не заметили, из кармана у него случайно не торчала рукоятка пистолета?
— О чем вы? — резко спросил Ньюмен. — Мне показалось даже, что он был необычно весел.
Валентин расхохотался.
— Очень рад это слышать! Значит, я выиграл пари. Ведь мадемуазель Ниош пустилась во все тяжкие, как у нас принято говорить в подобных случаях. Она покинула отцовскую обитель, снялась с якоря! А месье Ниош при этом весел сверх обычного! Только не размахивайте томагавком — с того дня, как мы встретились в Лувре, я ее не видел и не обменялся с ней ни словом. Андромеда нашла себе другого Персея[95] — не меня. Но сведения самые достоверные, в таких делах я неточностей не допускаю. А теперь можете заявлять протест.
— Черт с ним, с протестом, — пробормотал, не скрывая досады, Ньюмен.
Тон, каким, берясь за ручку двери, чтобы вернуться в салон своей матери, отозвался Валентин, был совсем иным:
— А вот теперь я непременно с ней встречусь! Она — редкостный экземпляр! Редкостный!
Глава тринадцатая
Ньюмен сдержал свое обещание, или угрозу, часто бывать на Университетской улице и вряд ли мог бы подсчитать, сколько раз за последующие шесть недель виделся с мадам де Сентре. Он тешил себя мыслью, будто нисколько не влюблен, однако смеем предположить: его биографу это виднее. Как бы то ни было, Ньюмен не претендовал на льготы и авансы романтической страсти. Он считал, что от любви человек глупеет, но за собой ничего подобного не замечал; напротив, он чувствовал себя прозревшим — благоразумным, сдержанным, твердо знающим, чего хочет. Им владела безграничная нежность, и предметом этой нежности была необыкновенно грациозная и хрупкая, но в то же время сильная духом женщина, живущая в большом сером доме на левом берегу Сены. Нежность, переполняющая Ньюмена, не раз оборачивалась самой натуральной сердечной болью, и уж по одному этому симптому нашему герою следовало догадаться, каким названием нарекла наука его недуг. Но когда на сердце тяжесть, разве имеет значение, чту на него давит — золото или свинец? Во всяком случае, если счастье переходит в состояние, которое не отличишь от боли, настает момент признать, что власть рассудка на время отступает. Ньюмен страстно желал добиться расположения мадам де Сентре и, думая о том, что сделает для нее в будущем, ни на чем не мог остановиться — ничто не отвечало тем высоким требованиям, которые он сам себе назначал. Она представлялась ему столь совершенным созданием природы и обстоятельств, что, строя упоительные планы на будущее, он всякий раз спохватывался, не окажется ли задуманное им пагубным для нее, не нарушит ли присущую ей пленительную гармонию? Вот как охарактеризовал бы я владевшее Ньюменом чувство: мадам де Сентре, такая, как она была, столь восхищала его, что он, подобно молодой матери, чутко охраняющей сон своего первенца, стремился заслонить ее от всех превратностей судьбы. Наш герой был попросту зачарован и берег это ощущение, как берегут музыкальную шкатулку, которая, стоит ее неосторожно встряхнуть, перестает играть. Происходившее с Ньюменом служит убедительным доказательством того, что в каждом человеке, независимо от его темперамента, таится эпикуреец, только и ждущий какого-то вещего знака свыше, чтобы, ничего не опасаясь, выглянуть из своего убежища. Впервые Ньюмен действительно наслаждался жизнью — полно, свободно, проникновенно. Сияющие добротой глаза мадам де Сентре, ласковое выражение ее лица, глубокий певучий голос занимали все его мысли. Даже увенчанный розами житель Древней Эллады, погруженный в созерцание мраморной богини и давший на время блаженный покой своему пытливому уму, не мог бы служить более ярким примером того, как гармония торжествует над разумом.