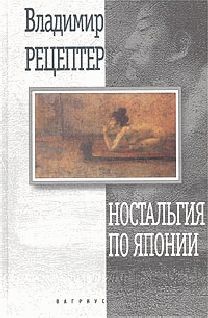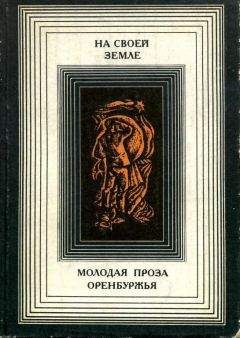Петр Краснов - Понять - простить
— Мая, я должен на днях ехать в Прокутов. Мой отпуск — две недели. И я хотел бы знать… Любите вы меня или нет?
— Разве девушки это говорят? — пожимая руку Игруньки, сказала Мая.
Игрунька смелее посмотрел на Маю. Какой недостижимой показалась она ему сейчас в белой закрытой блузке, куда скромно уходила тонкая шейка.
— Мая… Я понимаю, что теперь не время. И нехорошо старому солдату, как я, говорить это. Нехорошо гусару думать об этом. Я, Мая, давно люблю вас… Скажите, могу я надеяться?
— Надеяться можете, — тихо сказала Мая.
— Нет, Мая… Скажите прямо: будете вы моей женою? Когда кончится это страшное время, когда соберется… Учредительное собрание и вернет на престол русского монарха, Мая, тогда — могу я рассчитывать, что вы наденете подвенечную фату и в белых цветах пойдете венчаться с лихим корнетом в червонном доломане и ментике, сотканном из тучи…
"Предложение сделал. И красиво сделал, — подумала Мая. — Просто хоть записать. И сам он молодчик. А глаза! Совсем особенные!"
— Мая!
Игрунька робко поднял руку Маи к своим губам. Она детским движением обняла его шею, хотела поцеловать в щеку, но их губы столкнулись, и она прильнула к его устам.
— Да, — сказала, отрываясь от Игруньки Мая, — но никому… Ни папе, ни маме пока не говорите… Это наша тайна…
Она вскочила. — Но вы даете слово? — вставая, сказал Игрунька.
Мая вихрем понеслась к дому.
На бегу, она оглянулась на Игруньку.
— Даю!
VIII
Через пятнадцать дней Игрунька являлся в Прокутов командиру эскадрона.
В полку только что разыгрался скандал. Комитет постановил продать собственных офицерских лошадей для того, чтобы не было неравенства между солдатами и офицерами. Командиру полка было определенно известно, что лошадей скупают евреи и через фронт переправляют немцам. Он говорил об этом с солдатами, покривил даже Душой, назвав их «товарищами», но наткнулся на глухое молчание большинства и на страстные речи младшего писаря и эскадронного фельдшера с истерическими выкриками, видимо, заученных фраз.
Вместо веселой лихой полковой семьи, застольных песен и рассказов о подвигах, Игрунька встретил озабоченные лица и совершенно растерявшихся, не знающих, что делать, офицеров
Игруньку сейчас же назначили с взводом на охрану большого сахарного завода.
Когда он «чертом» на казенном вороном коне Контрабасе подлетел к взводу и лихо крикнул: "Здорово, гусары!.." — он получил в ответ хмурое:
— Здравствуйте, господин корнет.
Точно в жаркий день бросился с разбега в воду и вдруг ударился о толстый лед. Но Игрунька был молод и не испугался. Было кисло на сердце от такого не гусарского, штатского, «товарищеского» ответа, но справился с собой и вида не показал, что недоволен.
На площади толпились любопытные. Где в эти дни не толпились люди, кто не праздновал в этот страшный год долгожданную свободу и не спешил на улицу по всякому поводу? Люди других эскадронов стояли серой толпой кругом и, не стесняясь, делали замечания по адресу Игруньки.
— Вишь, черт подлетел какой. Это ему заказать надоть. Старым режимом пахнет.
— А лихой парнишка.
— Лихой-то лихой, а только не ладно. Что за "здорово, гусары", ты поздоровкайся поскромнее, потому понятие надо иметь, что теперь равенство, и все одно — товарищи.
— Они молодые, не понимают еще этого.
— Учить надоть настоящему обращению.
Все это слышал и мотал на ус Игрунька. Торопился уйти из толпы, уйти от нагло гогочущих молодых большевиков, вышедших в первые ряды и игравших роль коноводов. И, когда сомкнулась за ним степь и не стало видно города, когда потянулись сухие жнивья, покрытые серой стерной, показались изумрудные просторы озимей, точно другими стали солдаты.
— Слезай, — скомандовал Игрунька. — Оправиться!..
Пулей подскочил принять у него лошадь молодцеватый Иван Саенко и ласково потрепал Контрабаса по ноздрям.
— Что, господин корнет, ничего себе конь? Я на ем ездил. Шаг дюжа хороший.
— Конь как конь, — сказал Игрунька. — И не на таких езживали, — и вынул портсигар.
Саенко порылся в кармане рейтуз и, достав спичку, подал огня офицеру.
— Курите? — спросил Игрунька.
— Балуюсь, господин корнет.
— Возьмите папироску.
— Покорно благодарю, господин корнет.
Оба затянулись, закутались дымом.
Постояли. Помолчали. Двадцать солдат и юноша корнет. Смотрели гусары на корнета, корнет смотрел на гусар.
"Душить таких велят, — думали солдаты. — А за что душить? Правильный офицер. Все понимает".
"Чем не гусары? — думал Игрунька. — Вот тот, черноусый — молодчина какой. С крестом. Вот с такими в тыл к немцу. Не страшно".
Вспомнил: "Здравствуйте, господин корнет, — и понял: Большевики научили. Дураки… — понял и простил. — Я их другому научу", — подумал.
Сели, поехали дальше.
— Ну что же, ребята, песню надо.
— Не поем мы теперь песен, — хмуро Шазал унтер-офицер.
— Что так?
— Не поется чтой-то.
— И песен хороших не знаем, — сказал черноусый с крестом.
— Не знаете?.. — сказал Игрунька. — А видать, запевало… — и воскликнул так, что звонко, на весь взвод, пронеслось по степи: — ну и г…. вы, а не гусары…
Крутое слово вдруг растопило лед, и смелая ухватка поразила солдат.
Не было подле хама, чтобы научил, что надо в таком случае делать.
И робко сказал унтер-офицер.
— Запевалы-то во взводе, вишь, нет.
— Плохо, — сказал Игрунька. — Ну так я стану запевать.
У Игруньки от матери был унаследован хороший, чистый голос. И в корпусе, и в училище он был запевалой. Пел он мастерски. А тут еще и влюбленное в Маю сердце пело, и сознание, что двадцать парней, старших его, его солдат, его бравых чернобыльцев, слушают его, вдохновляло его. Он пропел первый куплет старой гусарской песни:
Царю — любовь моя!
В полку гусарском я.
Красив наш общий вид,
Хор трубачей гремит…
Гарцуя на коне,
Гусар счастлив вполне
И с маршем полковым —
Готов в огонь и дым.
— Ну что же? — обернулся он к солдатам. — Чего не подхватываете?
— Мы таким песен не знаем, — сказал унтер-офицер. Хмуро и чем-то недовольно было его лицо.
— А какие же вы знаете? — спросил Игрунька. — Да почитай, все позабыли старые.
— А новые?
— Петь не годится, — кинул унтер-офицер.
— Эх, вы! А еще гусары называетесь! Ну, буду петь один, а вы слушайте да мотив запоминайте.
Два часа шли до сахарного завода. Шагом и рысью вел взвод Игрунька, и, когда шли шагом, пел он солдатам то старые русские, то солдатские песни. За душу хватали его песни, в самое сердце просились. Но наплевал уже завистью в душу солдатскую большевик-социалист, а на сердце навесил замок, и молчали солдаты. Старались не слушать молодого корнета.
"Офицер ведь пел. А офицер — что? Известно, контрреволюционер… Кровушки-то солдатской, народной упился. Ему одно теперь: песни петь".
Уже подъезжали к заводу.
Не шуми ты, мать-сыра дубровушка,
— пел Игрунька, и как пропел слова:
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими —
Что двумя ли столбами с перекладиной!..
— Эх, — воскликнул он, оборачиваясь к гусарам, — будете такими, не вернете России Государя императора — висеть вам всем на виселицах. И Россию повесите!
Молчали гусары.
IX
На заводе устроились все вместе. Игрунька отказался от комнаты в доме управляющего и поместился с солдатами в заводской конторе, отгородившись от них простыней. Он зажил с ними равноправным членом общей взводной коммуны. Обычаи общины ему были знакомы из корпуса и училища. Кадетское правило гласило, что стыдно тайно от товарищей есть конфеты и не поделиться с ними, а гусары были товарищами Игруньки, и он делился с ними всем, что имел. Взвод сколачивался в прочное целое. Занятий не было. Торчали целыми днями у ворот, а в ненастье сидели в помещении на нарах.
Игрунька, не допуская фамильярности, называл пожилого унтер-офицера Розевика — Григорием Григорьевичем, черноусый георгиевский кавалер Жихарь — был Степа, ловкий танцор Короткое — Федя.
Съездили в город, привезли оттуда гитару Игруньке и гармонику Ванюше Ермолову, готовили концерт и спектакль. На дворе строили кобылу и параллельные брусья, чтобы гимнастикой заниматься. Григорий Григорьевич уже называл Игруньку "ваше благородие". Старая выучка возвращалась. Стыдно стало ходить растяпами, с оборванными хлястиками на шинелях, стали кормить и чистить лошадей.
— А вы знаете, — сказал как-то Игрунька взводу, когда вечером собрались под лампой и кто шил, кто сидел, о чем-то думая, кто курил табак, — знаете, почему раньше офицера называли "благородием"?