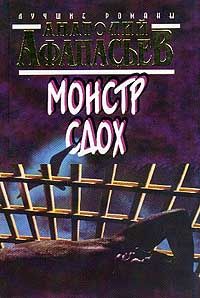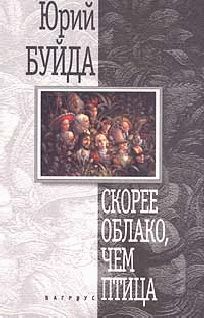Владимир Кораблинов - Прозрение Аполлона
– Так вот и быть. Беги, скажи, чтоб, ежели в случае чего, говорил бы: украли, мол, и все. Строчи давай, одна нога тут, другая – там!
Кинулся Ксешка бежать.
– Та-а-к, – сказал Алексей Иваныч. – А где ж остальная публика? Сизов? Петр Микола́в?
– Да где – смылись, – в черные смоляные усы усмехнулся Демьян. – Как услыхали, чего малый рассказал, так и смылись. Ну вас, говорят, к такой-то матери… Лучше, говорят, в хохлы ай в казаки пойдем пробираться…
– А то, говорят, доиграемся мы тут с вами, – встрял Серафим. – Поставят к стенке, да и на́ поди! И-и-эх! – дико вскрикнул, валясь наземь, опять ни с того ни с сего принимаясь бунчать:
Там сидели две красотки,
гоп-с-тир-дар-дар-дай!
На них юбочки коротки —
гоп-с-тир-дар-дар-дай!
– Шалопут! – махнул рукой дед Молоканов. – Пра, шалопут… Ну-к, чего ж делать-то будем? – обернулся к Алексею Иванычу. – Давай, голубь, командуй, как ты есть в нашей артели за хвелмаршала…
– Вот что, – подумав, сказал Алексей Иваныч. – Солонина у нас есть? Есть. Мучицы, картохи там, чего протчего тоже наберется недельки на две… Слухайте, мужики: сидеть будем тут. Сидеть.
– Чеку, стал быть, станем дожидаться? – подковырнул Демьян, с насмешкой и ненавистью глядя на Алексея Иваныча. – Товарища Бахолдина?
– Бахолдин! – презрительно сплюнул Алексей Иваныч. – Твой Бахолдин вот-вот сам, не хуже того зайца, аллюр три креста будет вчесывать… Садакову станцию знаешь? Так вот, – он понизил голос, оглянулся даже, словно боялся, что деревья, звериная лесная мелюзга подслушают, – там вчерась белую разведку видели, понял?.. Бахолдин… дерьмо собачье!
И вот стали они «сидеть».
Четыре разных по характеру человека, не имеющие ни общей родины (все были из разных сел), ни каких-то общих чувств и мыслей, кроме одного чувства – страха перед возмездием за содеянное, и одной мысли – продержаться, высидеть в лесной яме, пока белые войска не прогонят Советскую власть.
Прежде, когда была хоть какая-то видимость дела: грабежи, налеты да и бабы нет-нет да проведывали, еще туда-сюда текла жизнь, ни шатко ни валко, как говорится, но все же терпеть можно. А тут скука взяла.
Тогда, весною, в первые недели сокровенного существования, еще как только зачиналось это их внезаконное бытие, всякой заботы оказывалось пропасть: жилье устраивать, дозоры нести, насчет харчей промышлять (не сразу ведь бабы распознали, где их благоверные обретаются), а самое главное – приноравливаться к дикому, непривычному, прямо сказать волчьему обиходу. Теперь же, когда уверились, что болота охраняют их не хуже дозоров, когда харчей стало вдоволь и когда уже как бы вросли в дикую жизнь, сделалось тяжко: все переговорено, обо всем похвастано, надо всем позубоскалено. Бабам был дан строгий запрет, чтоб не ходили пока, не дай бог не навели бы чекистов на след.
Сидели. Скучали. Лениво переругивались изредка.
Спали помногу, но сон не с устатку, а так просто, абы спать, не освежал, не приносил бодрости и даже расслаблял тело и мозг. Просыпались сердитые, раздраженные, долго не могли стряхнуть с себя сонную одурь. Чесались страшно, с протяжным собачьим воем зевали, лениво пили теплую, застоявшуюся воду. Она воняла жестью, болотом, и пить было противно, но принести хорошей, проточной, сходить за сто сажен к роднику ленились.
Спала немытая, заросшая грязью плоть, и дух бессмертный спал. Каждый жил только в себе, медленные мысли были только о себе; многообразный мир человечества как бы не существовал вовсе. Демьян размышлял о своем доме, о хозяйстве, горевал, что не успел до заварошки (он так называл революцию) достроить новую избу; сокрушался, что баба без него все не так сделает: не с тем быком телку обгуляет, не так, как он ей наказывал, продаст овец… Алексей Иваныч с ненавистью думал о милиционере Тюфейкине, который прежде доводился ему сватом, а теперь помогает чекистам ловить его; еще думал, как он станет жить, когда воцарится белая власть, от которой он ждал многие поблажки и награды за то, что грабил и разорял советское добро и даже кой-кого из коммунистов, было дело, пристукнул… Серафим день и ночь валялся на нарах, бунчал глупые свои песенки. И если говорить о проявлении духовной жизни, то одного лишь старика Молоканова можно помянуть: нацепив надтреснутые очки, он подолгу читал Библию и размышлял о прочитанном, норовя обязательно перекинуть какой-то мосток с библейских текстов на те события, что нынче разворачивались вокруг него. Это у него ловко получалось. Прочтет, как землепашец Гедеон по божьему велению освободил израильский народ от власти мадианитян, и давай все на себя оборачивать: «Ага! – поднимет толстый, как чурка, палец, – кто ослобонил-то, понял, голубь? Зем-ле-па-шец! Так-то и мы, мужики: царя Миколашку спихнули, теперя коммунистов побьем, и вот те – слобо́да…» И глядел из-под очков небесными своими глазами премудро и строго, хитро умалчивая, что, побив мадианитян, Гедеон бросил хлебопашество и сам заделался царем.
Когда Алексею Иванычу пришло в шальную голову, что белые должны его заметить и отблагодарить, он стал мысленно прикидывать, в чем же и как это может выразиться. Очевидно было, что поставят его у власти. Какой именно – волостной или уездной, этого он пока предвидеть не мог, но любая была хороша, на любой показал бы себя. Они б, мужички, закряхтели у него! Он бы им все припомнил, все обиды…
А какие обиды?
Ну, разные. Память на обиды у него была цепкая: одного со школьных лет запомнил – в ребячьей потасовке фонарь Алексею Иванычу припечатал под глазом, с неделю зеленая дуля красовалась; у другого как-то – тоже давно было, перед войной, – взаймы десятку просил, так не дал, сволочь; третий кличку выдумал – «Гундырь», на всю жизнь прилипла, благо детишек бог не послал, а то и они бы так, ни за что, за здорово живешь, век в Гундырях проходили б… Тюфейкин еще этот… Ну, над ним бы он всласть потешился, попрыгал бы у него снегирь чертов!
Но хорошо. Допустим, что будет у него в скором времени власть. А капитал? Богатство? Деньги? Черт-ма. Стало быть, как был мужиком, так мужиком и остался. Не-ет, братки, он на такую дело не согласный. Это ведь при Советской власти деньги – пшик, ништо, а дай господа опять сядут – тогда как? Деньги есть – Алексей Иваныч, разлюбезный человек, а нету денег – Алешка Гундырь, пошел к такой-то матери…
Вот погулял он с полгода, похватал, пограбил, слава те господи, и сыт был и пьян, и нос, как говорится, в табаке, но капиталу-то ведь не нажил? Какой капитал! Четверть спирту, муки чувал, солонины кадушка – одни харчи. Не то надо было брать, не то. Золотишко, вот что. А у кого, спрашивается, брал бы он золотишко? Грабил-то мужика, – какое ж у него золото? Ну, может, где под застрехой, в старом чулке, пятерка-другая запрятаны, не об том речь. Ему не пятерки, не десятки сейчас требуются – тысячи… Десятки тысяч! Сотни!
Вот, братки, об чем речь.
И так, пока сидели в ожидании того близкого часа, когда товарищ Бахолдин и с ним вся власть «аллюр три креста врежут» и новая, белая власть воцарится, не одну ночь с боку на бок проворочался Алексей Иваныч, соображая, где б ему разжиться капиталом.
И вдруг – осенило…
Барыня полоумная, Малютиха!
Ах, мать честная, да как же это он раньше не допетрил!
8
Веселым, звонким перестуком конских копыт, тупым грохотом тяжелых колес гудел старый степной большак. Медные глотки военных труб, залихватские, с присвистом и гиканьем песни, крики и матерная брань в клочья рвали зачарованную тишину осенних дней. Ржали лошади, скрипели колеса нагруженных фурманок, бренчала сбруя, гремело порожнее ведро.
В этом пестром военном лагере все торговали, кто чем: золотишком (пятерками, десятками и нательными крестами), кальсонами, швейными иголками, сахаром, мануфактурой, дегтем, керосином, спичками, шустовским коньяком и даже самоварами. Все награбленное сбывалось с рук по сходной цене, охотно за николаевские и менее охотно – за керенки. Возле обозов особенно кипело и шумок стоял базарный, с зазываньями, с божбой, с магарычами и битьем рук.
Город был близок. Картинно гарцевали щеголеватые офицеры, в церквах трезвонили; крики солдатского «ура» мешались с хриплым гомоном потревоженных галок…
Темными ночами края неба розовели от пожаров. Гулко ухала пушка, пулемет остервенело огрызался по-собачьи, словно сухой мосол жадными зубами дробил: р-р-р!.. р-р-р!..
Красные налетали внезапно, больше по ночам, рубили казачьих бородачей, вкладывая в жестокий мстительный удар страшный смысл вековых обид и мужицких горестей. Шла беспощадная, не на живот, а на смерть, война – странная, диковинная, без ученых диспозиций, без штабных, расчерченных по линейке, планов, похожая на то, как дерутся два смертельно ненавидящих друг друга человека, порешившие про себя – пасть самому или свалить ненавистного.
В селах, охваченных войной, каждый новый день знаменовался каким-либо событием: нынче в Лопатине, допустим, белые кого-то волокут за сарай расстреливать, в поповском доме граммофон «ой-ру» наяривает, куры дурными голосами кудахчут, девка визжит, бабы голосят над опустошенными укладками; завтра в Лопатино стремительно влетают красные, и теперь за сарай уже кого-то другого волокут, и опять-таки бабы воют и куры кудахчут… Нынче Завьяловых спалили, у них трое ребят в Красной Армии, а завтра Кузёмкиных трясут: вековечные мироеды, да еще и старик ихний будто бы на Завьяловых по злобе указал, по его, стало быть, наущению шлепнули за сараем деда Завьялова, когда у того вины и было-то лишь, что фамилия Завьялов.