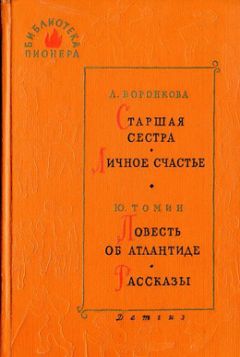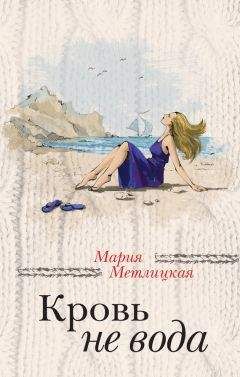Михаил Салтыков-Щедрин - Том 16. Книга 2. Мелочи жизни
Понятно, что ни от той, ни от другой разновидности читателя-простеца убежденному писателю ждать нечего. Обе они игнорируют его, а в известных случаях не прочь и погрызть. Что нужды, что они грызут бессознательно, не по собственному почину — факт грызения нимало не смягчается от этого и стоит так же твердо, как бы он исходил непосредственно из среды самих ненавистников.*
4. Читатель-друг
Я уже сказал выше, что читатель-друг несомненно существует. Доказательство этому представляет уже то, что органы убежденной литературы не окончательно захудали. Но читатель этот заробел, затерялся в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно. Бывают, однако ж, минуты, когда он внезапно открывается, и непосредственное общение с ним делается возможным. Такие минуты — самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем.
К этому мне ничего не остается прибавить. Разве одно: подобно убежденному писателю, и читатель-друг подвергается ампутациям со стороны ненавистников, ежели не успевает сохранить свое инкогнито.
Виноват: еще одно слово. В последнее время я довольно часто получаю заявления, в которых выражается упрек за то, что я сомневаюсь в наличности читателя-друга и в его сочувственном отношении к убежденной литературе. По этому поводу считаю долгом оговориться: ни в наличности читателя-друга, ни в его сочувствии я не сомневаюсь, а утверждаю только, что не существует непосредственного общения между читателем и писателем. Покуда мнения читателя-друга не будут приниматься в расчет на весах общественного сознания с тою же обязательностью, как и мнения прочих читательских категорий, до тех пор вопрос об удрученном положении убежденного писателя останется открытым.
IV. Девушки*
1. Ангелочек
Верочка так и родилась ангелочком. Когда ее maman[46], Софья Михайловна Братцева, по окончании урочных шести недель, вышла в гостиную, чтобы принимать поздравления гостей, то Верочка сидела у нее на коленях, и она всем ее показывала, говоря:
— Не правда ли, какой ангелочек!
Гости охотно соглашались, и с тех пор за Верочкой утвердилось это прозвище навсегда.
Софья Михайловна без памяти любила своего ангелочка и была очень довольна, что после дочери у нее не было детей. Приращение семейства заставило бы ее или разделить свою нежность, или быть несправедливою к другим детям, так как она дала себе слово всю себя посвятить Верочке. Еще на руках у мамки ангелочка одевали как куколку, а когда отняли ее от груди, то наняли для нее француженку-бонну. От бонны она получила первые основания религии и нравственности. Уж пяти лет, вставая утром и ложась на ночь, она лепетала: «Dieu tout-puissant! rendez heureuse ma chère mère! veuillez qu’un faible enfant, comme moi, reste toujours digne de son affection, en pratiquant la vertu et la propreté»[47].
— Ишь ведь… et la propreté! — удивился однажды Ардальон Семеныч Братцев, случайно подслушав эту странную молитву, — а обо мне, ангелочек, молиться не нужно?
— Papa, — отвечала Верочка, — je sais que vous étes l’auteur de mes jours, mais c’est surtout ma mère que je chérie[48].
— Ну, ладно! вот ужо я тебя за непочтительность наследства лишу!
Супруги Братцевы жили очень дружно. Оба были молоды, красивы, веселы, здоровы и пользовались хорошими средствами. У обоих живы были родители, которые в изобилии снабжали молодых супругов деньгами. И старики и молодые жили в согласии. В особенности Софья Михайловна старалась угодить свекру и свекрови, и называла их не иначе, как papa и maman. Ардальон Семеныч поступал несколько вольнее и называл тестя «скворушкой» («скворушке каши!» — кричал он, завидев в дверях старика), а тещу — скворешницей, из которой улетели скворцы. Сначала это несколько коробило Софью Михайловну, которая не раз упрекала мужа за его шутки.
— Разве я называю твоего папа дятлом? — выговаривала она; но вскоре сама как будто убедилась, что иначе отца ее и нельзя назвать, как скворушкой, и всякие пререкания на этот счет сами собой упали.
Доброму согласию супругов много содействовало то, что у Ардальона Семеныча были такие сочные губы, что, бывало, Софья Михайловна прильнет к ним и оторваться не может. Сверх того, у него были упругие ляжки, на которых она любила присесть. Сама она была вся мягкая. Оба любили оставаться наедине, и она вовсе не была в претензии, когда он, взяв ее на руки, носил по комнатам и потом бросал ее на диван.
— Ардашка… дерзкий! — выговаривала она, но таким тоном, что Ардальон Семеныч слышал в ее словах не предостережение, а поощрение.
Первые проблески какого-то недоразумения появились с рождением Верочки. Софья Михайловна вдруг почувствовала, что она чем-то pénétrée[49], что она сделалась une sainte[50] и что у нее завелись les sentiments d’une mère[51]. Словом сказать, с языка ее посыпался весь лексикон пусторечия, который представляет к услугам каждого французский язык. Она реже захаживала в кабинет мужа, реже присаживалась к нему на колени и целые дни проводила в совещаниях с охранительницами Верочкиной юности. Какое сделать Верочке платьице? какими обшить кружевами ее кофточки? какие купить башмачки? Супружеская любовь бледнела перед les sentiments d’une mère. Даже встречаясь с мужем за завтраком и обедом, она редко обращала к нему речь и не переставая говорила с гувернанткой (когда Верочке минуло шесть лет, то наняли в дом и англичанку, в качестве гувернантки) и бонной. И все об ангелочке.
— Не правда ли, какая она милая? как отлично усвоивает себе языки? и как вкусно молится? Верочка! ведь ты любишь бога?
— Мы все должны любить бога, — отвечала Верочка рассудительно.
— Да, потому что он добр и может нам дать много, много всего. И ангелов его нужно любить, и святых… ведь ты любишь?
— Oh! maman!
На первых порах у Ардальона Семеныча в глазах темнело от этих разговоров. Он судорожно сучил ногами под столом, находил соус неудачным, вино — отвратительным, сердился, сыпал выговорами. Но наконец смирился. Стал реже и реже появляться к обеду и завтраку, предпочитая пропитываться в ресторанах, где, по крайней мере, говорят только о том, о чем действительно говорить надлежит. Верочку он не то чтобы возненавидел, а сделался к ней совершенно равнодушным. Англичанку переносил с трудом, француженку-бонну видеть не мог.
— Черт с вами! — решил он и откровенно объявил жене, что ежели эти порядки будут продолжаться, то он совсем из дома убежит.
Софья Михайловна слегка задумалась, но les sentiments d’une mère превозмогли.
— Как вам угодно, — ответила она холодно, впервые употребляя церемонное «вы», — не могу же я ради вашего каприза оставить единственное сокровище, которое я получила от бога! Скажите, пожалуйста, за что вы возненавидели вашу дочь?
— Не дочь я возненавидел, а ваши дурацкие разговоры.
— Ничего в наших разговорах дурацкого нет!
— Лошадь одуреет, не то что человек, — вот какие это разговоры!
— Нет, ты докажи!
Но Ардальон Семеныч вместо доказательств взял шляпу и, посвистывая, ушел из дома.
Натянутости явной еще не было, но охлаждение уже существовало.
Ангелочек между тем рос. Верочка свободно говорила по-французски и по-английски, но несколько затруднялась с русским языком. К ней, впрочем, ходила русская учительница (дешевенькая), которая познакомила ее с краткой грамматикой, краткой священной историей и первыми правилами арифметики. Но Софья Михайловна чувствовала, что чего-то недостает, и наконец догадалась, что недостает немки.
— Как это я прежде не вздумала! — сетовала она на себя, — ведь со временем ангелочек, конечно, будет путешествовать. В гостиницах, правда, везде говорят по-французски, но на железных дорогах, на улице…
Тут же кстати, к великому своему огорчению, Софья Михайловна сделала очень неприятные открытия. К француженке-бонне ходил мужчина, которого она рекомендовала Братцевой в качестве брата. А так как Софья Михайловна была доброй родственницей, то желала, чтобы и живущие у нее тоже имели хорошие родственные чувства.
— Что же вы не идете к брату? — говорила она бонне, — сегодня воскресенье — идите!
Оказалось, однако ж, что это совсем не брат, а любовник, и — о ужас! — что не раз, с пособием судомойки, он проникал ночью в комнату m-lle Thérèse, рядом с комнатой ангелочка!
Кроме того, около того же времени, у Софьи Михайловны начали пропадать вещи. Сначала мелкие, а потом и покрупнее. Наконец пропал довольно ценный фермуар. Воровкою оказалась англичанка…
— Вот это что называется éducation morale et religieuse![52] — трунил над женой Ардальон Семеныч.
В дом взяли немку, так как немки (кроме гамбургских) исстари пользуются репутацией добродетельных. Француженка и англичанка (тоже вновь приусловленные) должны были приходить лишь в определенные дни и часы.