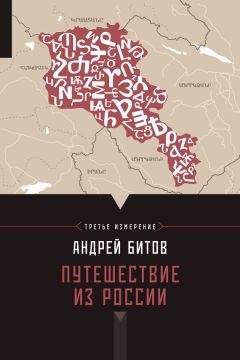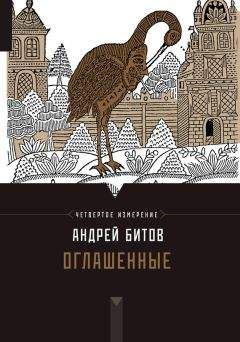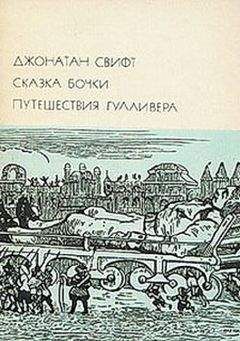Леонид Зуров - Иван-да-марья
«Иван-да-марья» — это повесть о великой любви. Есть ли в литературе тема более достойная и более знаменательная? Любовь зуровских героев вспыхивает, как новая звезда, и трагически гаснет, но, подобно свету звезды, доходит до нас спустя многие десятилетия. Мы смотрим на нее глазами повествователя, четырнадцатилетнего подростка — кто еще мог бы так трепетно и с таким самоотречением принять чувства старшего брата и девушки, которую только-только успел полюбить сам первой горячечной и целомудренной любовью. Впрочем, повествователь тоже занимается реконструкцией: он, уже давно взрослый, седой человек, вспоминает эту историю любви как самое яркое, самое значимое событие своей жизни.
Главного героя повести действительно, как задано заглавием, зовут Иван, но героиня — не Марья, а Кира. Проникнувшись историей их любви, М. Грин предположила присутствие в пронзительном описании чувства глубоко личные нотки и задала осторожный вопрос старому знакомцу Зурова еще по печорским экспедициям, преподавателю Кембриджского университета, историку и литературоведу Н. Е. Андрееву. Тот отозвался немедленно: «…что за произведение, над которым работал Л. Ф., где героиня Кира? Где будет храниться рукопись? Нельзя ли на нее взглянуть? Это крайне (но чисто лично) меня интересует, ибо у меня ряд личных наблюдений и данных о Кире, которая была великой любовью Леонида Федоровича в 30-х годах, но была уже замужем за хорошим человеком, но не подходящим… <…> Мы с Леонидом Федоровичем никогда не говорили на эту тему, но он знал, что я знаю, и это мужское молчание нас сближало».
С Кирой Борисовной Иртель-Брендорф Зуров познакомился в 1935 году в Таллине, у нее действительно был муж, да еще и маленький сын. Об их отношениях известно очень мало: Зуров сохранил несколько писем Киры. Некоторые — краткие, дружески небрежные, за двумя подписями, Киры и ее мужа. Редкие — на нескольких страницах, с упреками и выяснением отношений, с признаниями и пониманием, что впереди — тупик. Что мог предложить Зуров любимой женщине — гол как сокол, без крыши над головой, больной и одинокий? Тем все и кончилось. Последние поздравительные открытки датированы 1939 годом.
Кира из повести мало похожа на свой прототип[2], ее постоянно осеняет высокая поэзия, она будто на миг выступила из легенды и воплотилась в слове. Но не только личная драма была положена Зуровым в основу повести — историю любви и верности до гробовой доски он услышал все в том же Печорском крае в семье Свидзинских, с которой подружился во время своих экспедиций. Старший брат главы семьи, Георгия Владимировича Свидзинского, погиб в Первую мировую войну. В газете «Новое время» была помещена фотография Владимира и его жены с подписью: «Шт. — капитан Вл. Вл. Свидзинский, убитый 16 февр. под Ст-вым во время ночного штурма и награжденный золотым оружием, представлен к ордену св. Георгия 4 степ. Рядом — его жена Анна Александровна, сестра милосердия, энергично работавшая на передовых позициях и трагически почившая у гроба мужа-героя, на пути следования тела из Галиции на родину, в Псков»[3]. Словосочетание «трагически почившая» здесь призвано скрыть истинное происшествие — самоубийство, тягчайший грех в православной традиции. Зуров, человек глубоко верующий, это самоубийство в повести изображает, более того, вопреки церковной традиции не хоронить самоубийц в освященной земле, его героиню, Киру, хоронят в одной могиле с мужем, жить без которого она не смогла.
Может быть, та ревностность, с которой Зуров относился к своей последней повести, сродни ревности — ему никак не хотелось расставаться с памятью о любимой. Пока был жив — любовь согревала. Теперь она согреет нас.
Повесть Зурова приходит к читателю не в том виде, в каком он сам выпустил бы ее в свет, но в последнем приближении. Она будет говорить сама за себя. А ее читатели, возможно, ответят на вопрос, заданный Г. В. Адамовичем еще в 1948 году. Тогда, упомянув в своих «Литературных заметках» рассказ Зурова «Ванюшины волосы», он прикоснулся к самым жгучим, самым мучительным раздумьям литераторов русского зарубежья: «В рассказе каждое слово пахнет Россией, и слишком мы здесь стали к этому особому, таинственному запаху чувствительны, чтобы сразу его не уловить. Зуров — настоящий писатель. Когда-нибудь, когда все перемелется и все наши раздоры и разъединения сойдут на нет, русские люди со стыдом будут вспоминать, что этому настоящему писателю — да и не ему одному — случалось с тоской спрашивать себя: стоит ли писать, раз написанное все равно обречено лежать в ящике, годами, годами, может быть, десятилетиями? Оценит ли кто-нибудь этот подвиг?»
Ирина Белобровцева
Иван-да-марья
В наш класс падало солнце, а доносившийся в открытые окна шум губернского города кружил головы. Весной мне исполнилось четырнадцать лет, и это было счастливое время. На уроке французского языка я начал писать стихи.
Неблагополучно было с математикой, и на последнем экзамене, вычерчивая на доске теорему, я два раза запутался, но друзья с дальних парт помогли.
— Ну, как? — спросил я их, переведя дыхание, положив мел и вытирая платком руки.
— Вначале ты, конечно, ошибся, — сказал коротко остриженный Шурка, — ну, да не так-то он строго и спрашивал.
— Что ты время теряешь, — добавил другой, — спроси Константина Константиновича, обязательно спроси.
Помню, с замиранием сердца я выбежал из класса и возле учительской нагнал высокого и неторопливого математика.
— Константин Константинович, простите, — сдерживая дыхание, сказал я.
Он остановился и по своему обыкновению весьма хмуро посмотрел на меня.
— Ну, — спросил он, — в чем дело, Косицкий?
— Константин Константинович, я, отвечая, ошибся.
— Да, — подтвердил он, и таким тоном, что мне стало жарко, кровь прилила к ушам.
— Но у меня, Константин Константинович, по всем предметам отметки хорошие.
— На этот раз, — медленно сказал он, — я вас пропущу, но все же, молодой человек, во избежание в будущем неприятностей советую вам летом серьезно геометрией позаниматься.
— Обещаю, — ответил я, а сердце сильнее забилось от радости.
— Ну, что? — обступив меня, когда дверь в учительскую закрылась, спросили друзья.
— Федя, как?
— Мимо беду пронесло.
Уже чувство необычайной легкости и освобождения охватило меня, и, не помня себя от радости, я стремглав бросился в успевший за это время опустеть класс.
— А мне латинист вывел двойку, — догоняя меня, сказал Шурка.
Забрав из парты тетради и книги, мы сбежали по широкой лестнице в раздевалку, а оттуда, сорвав с вешалки фуражки, на залитый солнцем гимназический двор, где гоняли футбольный мяч старшеклассники. Помню, мяч тогда подкатился, и Шурка так сильно и ловко ударил по нему ногой, что он пошел вверх, кружась и блестя новенькой кожей.
— Ах, уж эти мне древние языки, — сказал Шурка, и мы отправились на главную улицу. Там мы вскочили на площадку медленно идущего трамвая. Держась за поручни, стоя на солнце, доехали до моста и выскочили на повороте, где вагоновожатый всегда замедлял ход.
— Ты куда? — спросил Шурка.
— Домой. Мать ждет. А ты?
— Я на пристань. Подумаешь, торопиться. И без того дома недоставало историй.
И Шурка сбежал вниз, к пришедшим ранним утром ладьям с заплатанными, желтоватого сурового полотна парусами. Там, под скалой, с возведенными над ней рассыпающимися стенами было наше любимое место. На берегу рыбаки в котле варили уху. Оставшись на мосту, я смотрел вниз, а знакомые ребята мне кричали:
— А ты что же, Федя?
Глядя на них, я колебался, но хотелось поскорее обрадовать мать, и я ответил:
— Скоро, ребята, и я прибегу.
— Приходи к собору, — крикнул мне младший, — там соберемся.
А воздух был чистый и вольный, на воде солнце, впереди лето. Надо сказать, что весна была изумительная, и все, дрожа, переливалось в радостной голубизне, и наш раскинувшийся при слиянии двух рек город казался освобожденным. Был чист и ясен вознесенный на высоком мысу, над рассыпавшимися местами серыми крепостными стенами белый собор. Под ним искрилась река, а на рыбьем базаре бабы зачерпнутой из реки водой обмывали лотки. А весна сияла в необычной свежести, идущей от согревающихся вод, в веселом водном раздолье радующихся слиянию рек.
Охватившее меня чувство легкости стало еще сильней, когда, перейдя мост, я направился к дому. Я шел, улыбаясь, играя перетянутыми ремешком книгами, и лица встречных видел через свою радость.
Жили мы на одной из тихих улиц, выходящей садами к реке, с канавами, зарастающими тысячелистником, зеленой ромашкой. Подходя к дому, я пожалел, что не увидел в подвальном этаже зозулинского дома растрепанного и босого дворника Платошку. Жаль было, что у ворот меня не встретила молодая длинношерстая, принадлежавшая Зозулину собака. Квартира Платошки, в открытое окно которой я на ходу заглянул, была пуста.