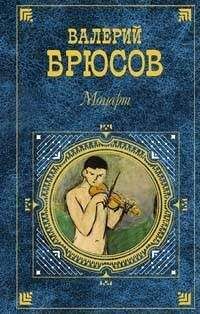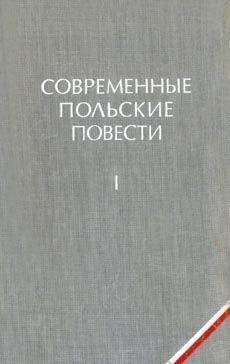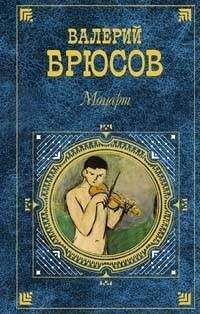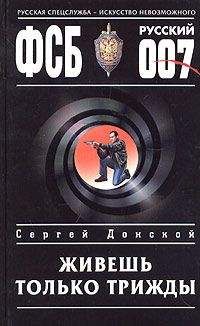Генри Джеймс - Американец
— Очень не повезло, сэр.
— Ну, не падайте духом! Вы снова встанете на ноги, — весело сказал Ньюмен.
Старик склонил голову набок и посмотрел на американского джентльмена с такой болью, словно его шутливый тон был неуместен.
— Что он говорит? — спросила мадемуазель Ноэми.
Месье Ниош взял щепотку табака.
— Говорит, что я верну свое состояние.
— Да уж, разве что он поможет. А еще что?
— Что ты умница.
— Вполне возможно. Ведь ты и сам так считаешь?
— Считаю ли, дочь моя? При таких-то доказательствах! — и старик снова повернулся и с почтительным удивлением посмотрел на откровенную мазню, стоявшую на мольберте.
— Тогда спроси его, не хочет ли он поучиться французскому.
— Поучиться французскому?
— Ну да, не хочет ли брать уроки.
— Уроки? У тебя?
— У тебя.
— У меня, дитя мое? Как же я могу давать уроки?
— Pas de raisons![17] Спроси немедленно, — мягко, но властно приказала мадемуазель Ноэми.
Месье Ниош ошеломленно молчал, но под взглядом дочери собрался с духом и, постаравшись любезно улыбнуться, выполнил приказ.
— Не желаете ли попрактиковаться в нашем прекрасном французском языке? — осведомился он с трогательной дрожью в голосе.
— Попрактиковаться? — удивился Ньюмен.
Месье Ниош соединил кончики пальцев и медленно пожал плечами:
— Ну да, немного поучиться, как вести беседу.
— Вот именно, беседу, — проворковала мадемуазель Ноэми, которая поняла это слово, — научиться беседовать, как принято в лучшем обществе.
— Знаете, у французов настоящий талант вести беседу, — осмелился продолжить месье Ниош. — Они этим и славятся.
— Но, наверно, это очень трудно? — простодушно спросил Ньюмен.
— Не для человека с esprit,[18] ценителя красоты во всех ее проявлениях, каким является месье, — и старый Ниош многозначительно посмотрел на вышедшую из-под кисти его дочери Мадонну.
— Представить себе не могу, что я заговорю по-французски, — засмеялся Ньюмен. — Однако полагаю, чем больше человек знает, тем лучше.
— Месье выразил свою мысль в высшей степени удачно. Hélas, oui![19]
— Наверно, знание французского помогло бы мне в моих скитаниях по Парижу.
— Разумеется, ведь месье захочется поговорить о многом, и о трудных вещах тоже.
— О, мне обо всем говорить трудно. А вы что, даете уроки?
Бедный месье Ниош совсем растерялся, его улыбка стала еще более умоляющей.
— Я, конечно, не то чтобы настоящий учитель, — признался он. — Нет, я не смею назвать себя учителем, — он обернулся к дочери.
— Скажи, что ему подвернулась редкая возможность, — потребовала мадемуазель Ноэми. — Один homme du monde[20] беседует с другим. Вспомни, кто ты, кем был.
— Но уроки языка я же не давал! Ни в прошлом, ни тем более сейчас. А если он спросит о цене?
— Не спросит, — заверила его мадемуазель Ноэми.
— Могу я ответить: «Сколько дадите»?
— Ни в коем случае! Это дурной тон.
— А если он все-таки спросит?
Мадемуазель Ноэми надела шляпку и принялась завязывать ленты. Она расправляла их, выставив вперед маленький нежный подбородок.
— Десять франков, — выпалила она.
— О, дочь моя, я никогда не осмелюсь!
— Ну и не осмеливайся! До конца уроков он не спросит, а тогда счет напишу я.
Месье Ниош повернулся к доверчивому иностранцу и, потирая руки, уставился на него с таким видом, словно готов был признать себя виноватым, однако этот вид был ему в высшей степени свойствен, а посему не настораживал. Ньюмену и в голову не пришло спросить о каких-либо гарантиях или о том, имел ли старик право давать уроки, он полагал, что месье Ниош, разумеется, знает свой родной язык, а его трогательная растерянность вполне увязывалась с тем, как Ньюмен почему-то представлял себе пожилых иностранцев, зарабатывающих на жизнь уроками. Лингвистические проблемы никогда не занимали Ньюмена. У него сложилось впечатление, что овладеть тем загадочным щебетом, на котором изъясняются в этом удивительном городе Париже вместо его родного английского языка, можно просто за счет усердных, пусть смешных и непривычных, физических усилий.
— А как вы научились английскому? — спросил он старика.
— О, это было еще до постигших меня несчастий. Я тогда был молод и схватывал все на лету. Мой отец, крупный commerçant,[21] отправил меня на год в Англию учиться банковскому делу. Вот там-то кое-что и прилипло ко мне, но я уже многое забыл.
— А чему я смогу научиться за месяц?
— Что он говорит? — спросила мадемуазель Ноэми.
Месье Ниош перевел.
— Скажи, что он будет говорить как француз, — велела дочь.
Но тут снова взыграла врожденная щепетильность, дарованная месье Ниошу совершенно напрасно, ибо она не способствовала его успехам в коммерции, и он воскликнул:
— Dame,[22] месье! За месяц я научу вас всему, чему смогу! — Но, заметив знак, сделанный дочерью, спохватился и добавил: — Я буду давать вам уроки у вас в отеле.
— О, я с удовольствием выучу французский, — продолжал Ньюмен со своей демократической доверчивостью. — Вот уж о чем никогда даже не помышлял! Всегда считал, что это невозможно. Но научились же вы моему языку, чем я хуже — научусь вашему! — и его искренний дружелюбный смех смягчил колкость слов. — Только, знаете, если уж учиться, ведя беседу, вам придется подбирать темы повеселее.
— О, сэр, вы — сама доброта, я сражен! — развел руками месье Ниош. — А веселья и радости у вас самого на двоих хватит.
— Ну нет, — уже более серьезно ответил Ньюмен, — извольте встряхнуться и держаться повеселей. Иначе я не согласен.
Месье Ниош отвесил поклон, приложив руку к сердцу.
— Хорошо, сэр. Меня вы уже развеселили.
— Тогда приходите и приносите мою картину. Я заплачу за нее, и мы об этой покупке потолкуем. Вот и тема для приятного разговора.
Мадемуазель Ноэми собрала свои принадлежности и вручила бесценную Мадонну попечениям отца, который, пятясь задом и держа картину в вытянутой руке, с почтительными восклицаниями скрылся из глаз. Копиистка, как истая парижанка, накинула на себя шаль и, как истая парижанка, с улыбкой покинула своего заказчика.
Глава вторая
Наш герой снова подошел к дивану и на этот раз опустился на него с другой стороны, обращенной к огромному полотну, на котором Паоло Веронезе изобразил свадебный пир в Кане.[23] Несмотря на усталость, Ньюмен с интересом вглядывался в картину, она будила его воображение и отвечала его представлениям, достаточно претенциозным, о том, каков должен быть роскошный банкет. В левом углу картины молодая женщина с золотистыми косами, на которых красовался золотой головной убор, склонившись вперед, с очаровательной улыбкой дамы на светском обеде, внимала речам своего соседа. Ньюмен выделил эту женщину из множества других изображенных на картине, повосхищался ею и тут же обнаружил, что у нее тоже есть свой преданный копиист — молодой человек с взлохмаченными волосами. И Ньюмену вдруг стало ясно, что в нем проснулась страсть коллекционера. Он сделал первый шаг, почему бы не сделать следующий? Всего двадцать минут назад он купил свою первую картину и уже решил, что покровительствовать искусству — занятие захватывающее. От этой мысли он пришел в еще лучшее настроение и чуть было не обратился к молодому человеку с очередным: «Combien?» Здесь следует обратить внимание на ряд обстоятельств, хотя логическая цепь, их объединяющая, может показаться не слишком очевидной. Ньюмен знал, что мадемуазель Ниош запросила с него слишком много, но не досадовал на нее за это, однако молодому человеку намеревался заплатить ровно столько, сколько положено. Но в эту минуту его внимание привлек подошедший из другого конца зала джентльмен, по манерам которого можно было заключить, что он не является завсегдатаем музея, хотя в руках у него не было ни путеводителя, ни театрального бинокля. Зато был зонтик, белый на голубой подкладке. Мимо Паоло Веронезе он прошествовал, едва удостоив картину взглядом, да к тому же шел так близко, что ничего разглядеть и не мог. Поравнявшись с Кристофером Ньюменом, джентльмен остановился, обернулся, и наш герой, наблюдавший за ним, получил возможность проверить подозрение, зародившееся у него, пока он издали смотрел на вошедшего. И стоило Ньюмену вглядеться внимательнее, как он мгновенно вскочил на ноги и, протянув руку, кинулся через весь зал к джентльмену с белым зонтиком. Последний некоторое время недоуменно взирал на него, однако тоже нерешительно протянул руку. Это был крупный розовощекий мужчина, и хотя его физиономия, украшенная роскошной русой бородой, тщательно разделенной надвое и расчесанной на две стороны, не отличалась особенной живостью, он имел вид человека, готового охотно обмениваться рукопожатиями с кем угодно. Не знаю, что сказало Ньюмену выражение лица джентльмена, но в пожатии его руки он особой теплоты не почувствовал.