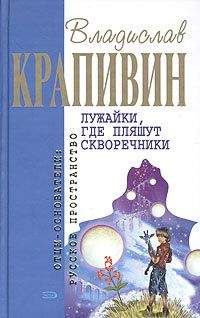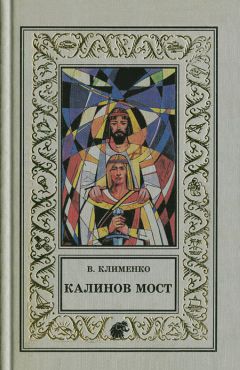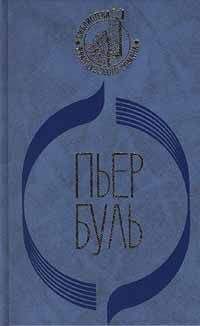Вячеслав Курицын - 7 проз
Дверь в галерею оказалась незапертой: тусовщики, видимо, просто забыли про нее, празднуя героическое спасение экспоната (так в плохом детективе преступник оставляет на месте преступления не только коллекцию окурков и отпечатков пальцев, но и прядь волос, кошелек, перстень и паспорт; так, в свою очередь, бросают монеты в море: чтобы вернуться). Выставка спала, экспонаты, лишенные поддержки благожелательных взглядов публики, выглядели вовсе уж картонно; и здесь мы найдем повод для учпедгизовской аналогии: чьи-нибудь описания снятых, ночных, необлагороженных ухищрениями светотехника оперных декораций... какой-нибудь "Садко - богатый гость", какое-то морское царство, больше похожее на то, чем, собственно, и является: на свалку утильсырья. Сцену свалки дополнял бритый башибузук: он неловко спал под стойкой, засунув саблю в сапог... он, впрочем, был без сапога... просто: спал, засунув. Он был мертвецки пьян.
Я тоже. Отдавая себе не слишком много отчета, я последовательно сокрушил всю экспозицию, вплоть до внешних ей стульчиков-сыроежек, хотя вряд ли можно было надеяться обнаружить Анну в аквариуме с таблетками. Подкатил, скуля, мяч на колесиках: вот его-то я пнул именно сапогом. Я вышел на крыльцо и сел на верхнюю ступеньку.
И так бывает: текст разобрался со всеми сюжетными линиями, определил как финальные, так и дальнейшие, эпилогом означенные, судьбы героев, истратил запас смыслов, нравственных уроков; текст, в общем, кончился, изжил свое предназначение, все, что мог, дал тем, кто хотел взять, но продолжают работать две вещи: инерция, обязательность тормозного пути (трение авторской усталости укорачивает тормозной путь, но не отменяет) и воля какой-то ментальной администрации: база выделила на конкретное сочинение определенное количество букв - и все их нужно использовать, даже если постройка уже завершена: так и получаются на фасаде завитушки или худые химеры с кислыми рожами... Так мне однажды было отмерено больше любви, чем я мог унести, освоить - и я перегорел тогда, как бытовой трансформатор, врубленный в какую-то космическую сеть; с тех пор я и решил, что любить можно только вообще...
Но текст - не любовь; скорее - модель ненависти души к проклятой необходимости материализовать свои жесты или к собственному желанию материализовывать, что есть просто гордыня, ибо небу как раз никакая материализация не нужна... И потому любой текст - громоздок, неловок, неудобен, неприятен в общении и неопрятен в быту; но эта-то необязательность и делает его по-походному неприхотливым - он, как парнишечка, согласен на чердаки и подвалы, он редко просит пить-есть... его - как-нибудь - дотянуть до конца можно.
И скорее в целях этого вот дотягивания ты, смертельно уставший, решаешься на полную контрамоцию, решаешь пройти однажды пройденный путь в обратном направлении, втуне желая погибели двум зайцам (это уже не те зайцы, что театрально высовывали уши из картонных цилиндров два авт. печ. л. назад): все же как бы замкнуть полюса своей судьбы, самоотождествиться (прав, прав был мужичонка), но остаться при своем мнении: инверсия таки тавтологичности не равна (и мужичонка посрамлен, посрамлен).
И я бегу на дневной чердак, и непонятно каким образом преодолеваю винтовой подъем, лишенный ночью. и малейшего намека на згу, ухитряюсь найти и ящики, где мы пили водку и закусывали консервой (банка и бутылка уже слизаны временем), где парнишечка, как я помню, спрятал свое сердце; и я долго шарюсь под занозистым ящиком, матерясь и похохатывая, нахожу-таки сердце: тусклое, еле-розовое, оно сочит прохладный сок света. Я подхожу к проволочному заграждению и впрямь вижу в пыли многих десятилетий следы сандалий - отчетливые, будто кто-то был здесь сегодня... И судорога страха сводит мне мускулы: я вспоминаю, что я один, глухой ночью, нахожусь на пустом, черном, чужом чердаке; мне кажется, что этот кто-то - бывший здесь сегодня и оставивший отпечатки сандалий давно погибшего мальчика - сверлит взглядом мой позвоночник, и я кубарем качусь с чердака, лихорадочно листая в воображении толстое, разбухшее, подобно утопленнику, иссиня-белое тело словаря, силясь вспомнить, что же толком есть кубарь и насколько корректен он при винтообразном полете; да, я почти лечу, лишь изредка встречаясь со ступеньками непредсказуемыми частями тела и судорожно хватая руками воздух в желании вписаться в вираж... я вываливаюсь во двор, как монета в луночку возврата монет, мне кажется, что переломаны все кости: кости как раз все целы, но парнишечкино сердце, которое я прижимал к груди на протяжении всего слалома (странно, видимо, сердцу прижиматься к груди с другой стороны; представим обложку книги, оказавшуюся между страниц, ставшую закладкой; представим ядро ореха, мечущееся по поверхности скорлупы; представим, наконец, кавычки, пойманные на контратаке, плотоядно зажатые в середине слова, притиснутые друг к другу, - а глаз привычно ищет в кавычках кавычки, а не инверсию кавычек, хочет обнаружить, что же именно отчуждено или поставлено под сомнение, что содержится между, и глаз начинает косить и слезиться, понимая; что между - отсутствие промежутка), сердце окончательно раздавилось и расползлось, весь свет из него вытек, и я брезгливо засунул его в плоскую глотку случившегося под рукой почтового ящика: эффектен персонаж, неожиданно получивший по почте сердце, - романтически эдак эффектен, но эффективен - другой, получивший по почте изжитую грязную мышцу и бытующий с ней дальнейше, не ведая, что это сердце...
За такими и подобными таким размышлениями я застал врасплох свое отражение в стеклянной двери утреннего бара, где мы торопили шампанское и коньяк, - отражение испуганно метнулось вверх по давешней улице, которая так брыкалась, коряжилась и кукарячилась всего несколько часов назад. Теперь она была тиха, как остывшее кипяченое молоко. Я медленно добрел до бульвара, упал на скамейку.
Бульвар был похож на цитату из Хайдеггера в переводе Бибихина: он был телесно-воплощающим про-из-ведением мест и, посредством этих последних, открытием областей возможного человеческого обитания, возможного пребывания окружающих человека, касающихся его вещей.
1996 - 1997
Эпистолярная проза
Автор, к этому времени переехавший в Москву, знакомится с четой замечательных поэтов: пишущим по-русски Алексеем Парщиковым и пишущей по-немецки Мартиной Хюгли. Вскоре линии жизни поэтов расходятся, но хитрый автор продолжает дружить с обоими и держит две обильные переписки. Переписка с Парщиковым вышла отдельной книгой, а письмо Мартине никогда прежде не публиковалось.
ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ МАРТИНЫ ХЮГЛИ
Мартина, здравствуй.
Скоро год, как я перевожу твой стишок "Оптика".
Он у меня распечатан за номером 42. Таков был номер квартиры в Новосибирске, в которой я прожил семнадцать (с чем-то) первых лет своей жизни. Дом, кстати, имел номер 17.
Все основные события моей жизни произошли, вроде бы, позже, после того, как я покинул эту квартиру. Вернее, я так погрузился в эти последующие взрослые события, что почти забыл думать о родном жилье. С 1982 года, когда я оттуда уехал, я был там, наверное, меньше десяти раз. После того, как умерла мама, я там не был вообще.
Последнее время я вдруг стал вспоминать об этой квартире. Все чаще. Видимо, это связано с тем, что скоро удвоится цифра. Жизнь, прожитая вне стен Котовского 17-42, сравняется с прожитой там. Если доверять мифологии родного гнезда (а у нас нет оснований ее игнорировать, если мы признаем презумпцию традиции как главного экрана, на который проецируются смыслы; тем более нет оснований игнорировать ее у меня, поскольку дом был уютным, а детство, несмотря на то, что большую его часть я рос без отца, - мягким, приятным, интересным, благополучным), это будет важная дата.
Ну-ка, я ее уточню. Думаю, что уехал в Свердловск в конце августа 1982-го. В 17 лет и 4 месяца. Следовательно, точка равновесия придется на 34 года и 8 месяцев. Столько мне исполнится в декабре 1999-го.
У меня еще есть время. Но память уже затянута в магнитное поле Точки, уже включена.
Сейчас в этой квартире живет другой мальчик, его зовут Паша. Ему десять лет. Он мой племянник. Мой отец, его дед, живет неподалеку, встречает Пашу из школы, ходит с ним гулять, как когда-то ходил со мной. Они ходят по тем же самым местам. В сад Кирова, который расположен прямо под окнами (дом построили в 1949 году пленные немцы: настоящий, что называется "сталинский", дом). В магазин "Гастроном" пить молочный коктейль (мы любили делать это с отцом, в мое время цена была 11 копеек). В другой подъезд того же дома, где жили и живут наши родственники, Макарцевы.
Меня почему-то все это сильно волнует: то, что Паша пересекает те же пространства, видит трещины на том же асфальте, глаз его воспитывается той же самой географией двора (двор большой и довольно сложный, двухуровневый), он ступает по тем же ступенькам. Он видит из окна тот же парк.