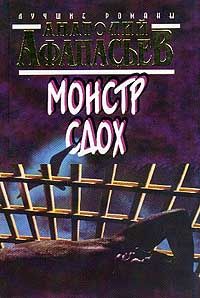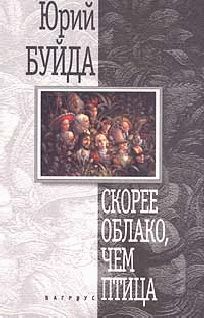Владимир Кораблинов - Прозрение Аполлона
– А то как же, тентиль-вентиль, двоих ссадили, – весело, довольно, словно хвалясь каким-то хорошо справленным делом, встрял милиционер Тюфейкин. – Вон они, под кусточком-то… Отпрыгались, головушки горькие! Жалко, Алешка ушел, самый ихний закоперщик…
Он махнул рукой на густо, непроходимо разросшиеся кусты дикого терна за скирдой. Там что-то, накрытое веретьем, виднелось, и трудно было бы понять – что, если б не нога в стоптанном, заляпанном грязью сапоге, торчащая из-под веретья, мертвая неподвижность этой ноги… Если б не пестрая хохлатая птичка удод, бесстрашно, будто на сухую кочку, примостившаяся на запыленный носок сапога. Еще дальше, на седоватой жнитвине, – опрокинутая телега и труп темно-гнедой лошади с уродливо вздувшимся животом и высоко, нелепо задранной задней ногой, закинутой на поломанную оглоблю. В двух-трех местах жнитву словно бы красноватой ржавчиной тронуло: это была засохшая кровь.
– Жалко жеребца-то… – ласково пел Тюфейкин. – Полукровка, видать, такой резвый… Ить надо ж, как угораздило, тентиль-вентиль, – прямо под левую лопатку попала! Вот грех-то… Ну, ладно, хоть сбруя добрая осталась. А портфелю вашу мы не видели, – обернулся он к Денису Денисычу. – Очки, действительно, валялись в стерне, а портфеля не было… А, Еремин? Верно ведь?
– Верно, – сказал Еремин, – портфеля не было. Я все кругом дочиста обыскал – одни очки…
– Значит, Гундырь на вашу портфелю польстился, унес, собака, – милиционер сочувственно покачал головой. – Что, верно, деньги, казенные суммы? И много?
– Да нет, какие деньги… Так, бумаги, чернильница, записки черновые в тетради…
– Ну, это, тентиль-вентиль, пустое, – сказал Тюфейкин. – Увидит, что денег нету, – выкинет.
– Жалко, – вздохнул Денис Денисыч.
– Может, записки-то поважней денег, – сказал Бахолдин. – Ты, Еремин, вот что: пока Петелина нету, сходи-ка еще пошукай.
Еремин с готовностью вскочил и пошел в сторону леса, глядя под ноги, вертя головой туда и сюда.
«Вот досада, – подумал Денис Денисыч, – и на какого черта было брать с собой тетрадь… Глупо! Ужасно все глупо получилось».
Он опять поглядел на убитого жеребца, на перевернутую телегу. И дико, невероятно ему показалось, что вот так, жалеючи, сокрушенно говорят о лошади, а те, что лежат под веретьем – люди, свои, здешние мужики, – как бы и жалости не достойны: «срезали», «ссадили», и все, точка. С удивлением и с некоторым даже страхом поглядел на этих троих, сидящих возле него: что за люди? Убить человека и не ужаснуться содеянному, а спокойно толковать о жеребце, о сбруе, о том, что шкуру надо снять с убитой лошади…
Но люди были самые обыкновенные, – встретишь так-то да и пройдешь, не заметив. Товарищ Бахолдин, видимо главный у них, костлявый, болезненного вида человек с нехорошим ржавым румянцем на бледных впалых щеках, сидел, привалясь к скирде, устало полузакрыв синеватые веки. Его голый лоб был влажен, на потном виске заметно трепетала жилка. Милиционер Тюфейкин, поджав по-турецки ноги, сидел на самом солнцепеке, грелся, просушивал ватную телогрейку, от которой валил пар. На его добром румяном лице сияло выражение довольства и покоя. Комсомолец Еремин был почти уже возле леса, на черном фоне деревьев ярким цветком татарника алел малиновый верх его кубанки.
Да, обыкновенные и, наверно, даже хорошие люди, не чета, конечно, тем, с какими встретился ночью… Но как же так? Эта хладнокровная жестокость?
«Такая, брат, нынче жизня, – вспомнил Легеня слова круглорожего мужика. – Не знай как об ней и рассудить…»
Они довезли Дениса Денисыча до самого Камлыка, прямо к школе, где квартировал писавший в губнаробраз учитель Понамарев. Тощий, подслеповатый, с какой-то семинарской чуднинкой, он обрадовался Легене, долго тряс руку, все твердил: «Очень хорошо, прекрасно-с!» – и говорил, говорил…
Действительно, картин по камлыкским дворам рассеяно было великое множество. Мясистые нимфы, белые лебеди, ангелы, полуобнаженные и совершенно обнаженные гаремные красотки, ландшафты с водопадами и морскими бурями, натюрморты с битой дичью, хрустальными бокалами, арбузами и персиками, – всего этого добра было пропасть. Заключенное в раззолоченные аляповатые рамы, оно пестрело – краснело, голубело, розовело и зеленело на каждом шагу. Шедевры базарной выделки во всю бездонную глотку кричали о знаниях и вкусе прежнего владельца, махорочного фабриканта Филина.
Денис Денисыч с учителем село из конца в конец прошли, заглянули чуть ли не в каждый двор, но все без толку: глазу не на чем было остановиться. Грудастая Леда, кокетничающая с плохо, беспомощно нарисованным лебедем, красовалась на дверце курятника; пухлый купидон нацеливался из лука в старый хомут под навесом-погребицы; какое-то бурное море с тонущими кораблями накрывало кадушку для отрубей.
– Вот-с, не угодно ли! – возмущенно трепетал бородкой учитель Понамарев. – Вандализм! Вопиющее невежество! Произведения искусства – в свинюшнике! А? Что вы на это скажете?
Денис Денисыч сказал, что всем этим нимфам и купидонам едва ли найдется лучшее применение.
– Разве что вот несколько рам…
Учитель сперва не понял, ошалело таращил глаза.
– То есть как же-с… позвольте? Какое же это применение? – недоуменно спросил. – В катухе-с?
– Вот именно, – сердито сказал Денис Денисыч – В катухе-с.
Всякое в его поездках случалось, но такое… Ему живо представилось свиное мурло махорочного фабриканта, ударившегося в моду коллекционирования. Зло взяло, что вот этак бессмысленно проездил да еще и влип в идиотскую историю с бандитами, чуть жизнью не поплатился, рукопись потерял – и из-за чего? Из-за дерьма, из-за ярко размалеванного мусора.
– Так-таки ничего и не обнаружили? – заикаясь от обиды, спросил учитель. Он стоял посреди зеленого выгона, возле церкви, засунув руки в карманы пятнисто-синих, из дурно выкрашенной холстины брюк, раскачиваясь с каблуков на носки. – Так-таки и ничего ценного?
– Ничего, представьте, – сказал Денис Денисыч. – Исключительная чепуха. Базарная мазня.
Задрав голову, он разглядывал церковную колокольню. Это было довольно интересное барокко конца восемнадцатого века.
– Вот это разве…
– Ка-а-к?! Церковь?!
– Да… но тут уж мы с вами ничего не можем сделать, ее в музей не увезешь.
– Прекрасно-с, прекрасно-с… очень хорошо-с! – Учитель откровенно недоверчиво оглядывал Легеню. И вдруг выпалил неожиданно: – А позвольте, дорогой товарищ, ваш мандатик?
И долго читал бумагу, вертел так и этак, для чего-то смотрел на свет, качал головой, видимо сомневаясь.
– Ну что ж, – сказал наконец, – если так, то извиняюсь, конечно, за беспокойство. Придется написать в высшие инстанции…
– Да для чего же, помилуйте? – улыбнулся Денис Денисыч. – Вы мне не верите?
– Не верю-с, – твердо отчеканил учитель. – Да и кто же вам поверит? Миллионер-с, на всю Россию знаменитая фирма – и вот тебе, вдруг…
– Это вы о ком? – не понял Легеня.
– О ком же – о Филине Сысой Матвеиче-с. Не глупее же они вашего были-с. У них художники даже на жаловании служили…
– Ну и пишите! – вспыхнул Денис Денисыч. – Можете хоть самому наркому писать, если вам кроме делать нечего.
– И напишу-с! – взвизгнул учитель. – Вот именно, самому товарищу Луначарскому и напишу-с!
Учитель Понамарев ушел разобиженный.
«Ну, анекдот! – подумал Денис Денисыч. – Да еще и какой скверный анекдот-то…»
Он присел на бревнышко в холодок под старым ясенем, буйно разросшимся над воротами церковной ограды. Невеселые были его мысли: поезд на Крутогорск идет ночью, значит, надо бы, не мешкая, сейчас же шагать в Садаково. Но… двадцать верст по грязной, еще не просохшей дороге… Но боль в голове, разбитость во всем теле. Еще бы, битых три часа таскаться по селу, да натощак… Впрочем, есть уже не хотелось, перетерпел, но – спать, спать…
Ласково, задушевно шептала густая листва над головой. Какие-то дивные запахи от ясеня, от скошенной на церковном дворе отавы, от теплой парной земли обволакивали легким облаком. И вот так бы, закрыв глаза, сидеть да сидеть, забыть про житейские дрязги, кровь, злобу, отмахнуться от всего, что извне, а только чувствовать, что внутри тебя, вдыхать эти сладковатые запахи земли, слушать шепот деревьев, негромкий пересвист синичек над головой…
Но был Легеня из тех людей, помыслы которых о покое так и остаются лишь помыслами: жизнь только и делает, что разрушает эти иллюзии и – хочешь не хочешь – велит действовать. Сейчас, например, он, может, и заснул бы в тишине под ясенем и, может, хоть на малое время обрел бы желанный покой, но Жизнь по зеленой мураве церковного выгона подкралась неслышно и над самым ухом пропела звонким, чуть хрипловатым тенорком:
– Ну, как делишки, товарищ Легеня! Много ль чего обнаружил по деревенским дворам?
Денис Денисыч вздрогнул, открыл глаза. Перед ним стоял давешний милиционер Тюфейкин, с добрым любопытством разглядывал этого чудного очкастого культпросветчика, которого в перестрелке с гундыревцами очень свободно мог бы и укокошить. «Откуда он взялся?» – удивился Легеня.