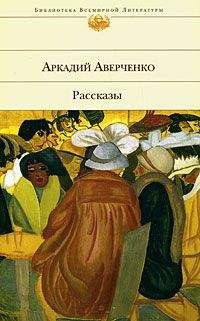Валентин Катаев - Трава забвенья
"Любить? Пожалуйста! Рубликов за сто. А я, бездомный, ручища в рваный в карман засунул и шлялся, глазастый".
Для Маяковского - да и для всех других поэтов - время шло по вертикали сверху вниз; так он и записывал свои строки. Для меня же время идет по горизонтали - туда или даже иногда обратно, - поэтому я записываю стихотворные строчки в одном направлении - по течению времени.
Однажды ночью мы шли с ним по горизонтали пустынной Мясницкой - он заходил ко мне в Мыльников, и я пошел проводить его до Лубянского проезда, ныне Серова, - я попросил его как-нибудь прочесть мне "Облако в штанах".
Он остановился, посмотрел на меня исподлобья и неожиданно рявкнул на всю улицу, разевая свою львиную пасть:
- Редчайшая бестактность!
Я струхнул.
- Почему же бестактность? Простите... Но мне давно уже... так хотелось... Почти все ваши вещи слышал в вашем исполнении... А "Облака" не слышал... не пришлось...
Он взъярился еще пуще.
- "Облако в штанах"! - заревел он. - А почему вы не просите меня прочесть "Хорошо!"? Почему?
В голосе его я уловил горечь.
- Что? Думаете, "Облако" лучше? А я считаю, что "Хорошо!" лучше. "Хорошо!" - лучшее мое произведение. И вообще, - снова поднял он свой разъяренный голос, - никогда не смейте просить поэта прочесть что-нибудь старое, вчерашнее. Нет хуже оскорбления. Потому что у настоящего мастера каждая новая вещь должна быть лучше прежних. А если она хуже, то, значит, поэт кончился. Или, во всяком случае, - кончается. И говорить ему об этом феерическая бестактность! Зарубите себе на носу. Фе-е-ри-чес-кая!..
Я понял, что, совсем не желая того, коснулся самого его больного места:
"Все меньше любится, все меньше дерзается, и лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизации - амортизация сердца и души".
...Сумерки продолжались. Маяковский проницательно посмотрел на меня и улыбнулся половиной лица.
- Катаич, у меня сложилось такое впечатление, что у вас назначено свидание, вам надо сломя голову мчаться, чтобы не опоздать, а вы стесняетесь сказать мне это.
* * *
"Я был молод, когда познакомился с Маяковским, - пишет Олеша, - однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским".
Я тоже любил Маяковского не менее сильно, чем Олеша, и я тоже был молод, но даже ради него не мог нарушить данного слова.
Он поощрительно кивнул мне головой.
Оставив Маяковского одного в свози комнате, я вышел из дома и, мобилизовав все виды транспорта, слетал туда и обратно - извинился, отменил, перенес, поцеловал, обнял - и, вернувшись минут через сорок, нашел его все на том же месте возле совсем посиневшего окна.
- Простите, - сказал я.
Он невесело улыбнулся одной щекой.
- Понимаю вас.
И пояснил своим любимым четверостишием из "Онегина":
- "Я знаю: век уж мой измерен; но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я".
В этот миг вдруг раздался звонок до сих пор молчавшего телефона.
По-видимому, наступил тот московский час, когда знакомые начинали перезваниваться, сговариваясь, где бы провести сегодняшний вечерок. В последнее время почти каждый день почему-то собирались у меня, так что моя квартира превратилась в подобие ночного клуба.
Едва я успел снять трубку, как Маяковский стремительно шагнул ко мне и сделал повелительный жест рукой, обозначавший приказание, прежде чем ответить, прикрыть телефонную трубку, что я и выполнил.
- Кто звонит? - спросил Маяковский.
- Сейчас узнаем.
Дальнейшее происходило так: я спрашивал, кто говорит, закрывал ладонью трубку и вполголоса сообщал Маяковскому имя звонившего, а он, несколько мгновений подумав, утвердительно или отрицательно, но чаще отрицательно качал головой. Иногда прибавлял при этом что-нибудь вроде: "Пусть приходит", или: "А ну его к черту", а то еще и значительно похуже, после чего я покорно говорил в трубку: "Я сегодня вечером занят": или "Приходите".
В этот день как раз звонило особенно много разного народа, и Маяковский, как золотоискатель, самым тщательным образом промывал звонки, оставляя редкие крупинки чистого золота: тех людей, которые должны были сегодня вечером составить ему компанию.
Было трудно понять, чем он руководствовался при этом выборе. Удивляло, что он отверг некоторых своих общепринятых друзей, товарищей по "Лефу", и сделал это с выражением - я бы даже сказал - яростного отвращения: "А, пошел он к..."
Такая же участь постигла и одного очень известного поэта другого лагеря, позвонившего мне в этот вечер.
- Не надо, - буркнул Маяковский, махнув рукой, и повернулся спиной к телефону.
Он недавно вступил в РАПП и, конечно, уже страшно раскаивался. Поспешил. Погорячился. Сделал ложный шаг. Я думаю, он уже понимал, что, в сущности, РАПП такой же вздор, как и "Леф". Литературная позиция - не больше.
До живого же Маяковского - человека, поэта, сложного и очень противоречивого, независимого и одинокого, как Пушкин, - большинству из них не было никакого дела. Для них - и для футуристов в прошлом, а нынче "лефов" в том числе - он был счастливая находка, выгоднейший лидер, человек громадной пробивной силы, за широкой спиной которого можно было пролезть без билета в историю русской литературы. Рай для примазавшихся посредственностей, оперативных молодых людей, бряцавших своим липовым лефовством, которые облепили Маяковского со всех сторон, общими усилиями принижая его до своего провинциального уровня, наросли на нем, как ракушки на киле океанского корабля, мешая его ходу.
Он был в отчаянии, он не знал, как от них избавиться, от всех этих доморощенных "лефов", невежественных и самонадеянных теоретиков, высасывающих теорию литературы из гимназических учебников старших классов...
Каких только монстров не было среди них!
Был даже один среднего размера карлик - страшный новатор, формалист и революционер в искусстве, разумеется превратившийся с течением времени в самого вульгарного, благонамеренного наукообразного строчкогона-консерватора, имеющего репутацию большого знатока литературы: фельдшер, выдающий себя за доктора медицины.
Поэт, неустанно боровшийся за освобождение человека от всех видов духовного рабства, незаметно для самого себя превратился в раба, по рукам и ногам скованного предрассудками так называемой литературной борьбы, которую совсем недавно сам же публично назвал "литературным мордобоем - не в буквальном смысле слова, а в самом хорошем".
Ну, пусть даже так: в самом хорошем смысле. Но страшно подумать, сколько он потратил своих драгоценнейших душевных сил на весь этот вздор.
Теперь он как бы вдруг на моих глазах сбросил с себя эти оковы и стал безгранично свободным, как и подобало поэту, одна лишь поэма которого стоила в тысячу раз дороже всех внутрилитературных скандалов и направлений, вместе взятых.
Пора великих превращений начиналась для него с возвращения внутренней свободы, душевной раскованности. Ему уже не надо было в угоду чьей-то выдуманной теории наступать на горло собственной песне, вычеркивать из своих стихов поразительные по силе куски, как это случилось со знаменитым:
"Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят - что ж?! По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь".
За одно это четверостишие - по-моему - ему нужно было поставить памятник, а ему пришлось в угоду кому-то или чему-то публично за это четверостишие каяться, называя его "райским хвостиком, приделанным к одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов",
добавляя при этом:
"Несмотря на всю свою романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал".
Какие же унижения при этом должен был испытывать он, мастер, отлично знающий настоящую цену этим своим строчкам!
Что же заставило его так несправедливо, а главное, неверно назвать одни из своих лучших строк "подмоченными"?
А бесконечные унижения, связанные с оскорбительным прохождением через тогдашний Главрепертком комедии "Баня", где он так блестяще дрался на два фронта - против правых оппортунистов и левых загибщиков?
Сначала все шло как будто хорошо.
Чтение в фойе театра Мейерхольда - там, где сейчас Зал имени Чайковского. Окна - на Триумфальную, ныне площадь Маяковского с его памятником, на месте которого тогда был зеленый провинциальный сквер, и вокруг него, как заводные игрушки, бегали, роняя искры, еще не вполне устаревшие электрические трамваи, те самые московские трамваи времен юного Маяковского, о которых он так замечательно сказал:
"Язык трамвайский вы понимаете?"
И еще более замечательно:
"...Тысячью поцелуев покрою умную морду трамвая".
Над домиком трамвайной станции, над нестриженой зеленью сквера виднелись отовсюду знаменитые часы - как сказал бы Олеша, "бочка счастья", знаменитые электрические часы, под которыми обычно назначались в Москве наиболее важные любовные свидания, в том числе, конечно, назначались и самим Маяковским.