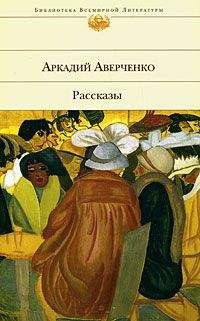Валентин Катаев - Трава забвенья
Особенно душил его сам председатель, доведя Маяковского до того, что однажды он в поезде "Красная стрела" Москва - Ленинград, стоя в коридоре международного спального вагона, держа в руке стакан чаю в тяжелом мельхиоровом подстаканнике, поставив толстую подошву своего башмака на медную панель отопления, яростно перетирая окурок боковыми зубами и глядя в окно на проносящиеся мимо парные телеграфные столбы - одна опора прямо, другая отставлена в сторону, что делало их похожими на двух чечеточников, вдруг начал читать только что сочиненные им злейшие эпиграммы. Одна была на поэта С. и заканчивалась цитатой из Крылова: "И рылом подрывать у дуба корни стала", в другой говорилось: "И бард поет, для сходства с Байроном на русский на язык прихрамывая", а третья была такая: "Подмяв моих комедий глыбы, Главрепертком сидит Гандурин. - А вы ноктюрн сыграть могли бы на этой треснувшей бандуре?"
* * *
Он прочел эти эпиграммы, окружив рот железными подковами какой-то страшной, беспощадной улыбки.
Такую железную улыбку я видел у него несколько раз, в частности в тот день, когда я познакомил его в редакции "Красного перца" с Булгаковым, которого Маяковский считал своим идейным противником.
Булгаков с нескрываемым любопытством рассматривал вблизи живого футуриста, лефовца, знаменитого поэта-революционера; его пронзительные, неистовые жидковато-голубые глаза скользили по лицу Маяковского, и я понимал, что Булгакову ужасно хочется помериться с Маяковским силами в остроумии.
Оба слыли великими остряками.
Некоторое время Булгаков молча настороженно ходил вокруг Маяковского, не зная, как бы его получше задрать. Маяковский стоял неподвижно, как скала. Наконец Булгаков, мотнув своими блондинистыми студенческими волосами, решился:
- Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обладаете неистощимой фантазией. Не можете ли вы мне помочь советом? В данное время я пишу сатирическую повесть, и мне до зарезу нужна фамилия для одного моего персонажа. Фамилия должна быть явно профессорская.
И не успел еще Булгаков закончить своей фразы, как Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, отчетливо сказал своим сочным баритональным басом:
- Тимерзяев.
- Сдаюсь! - воскликнул с ядовитым восхищением Булгаков и поднял руки.
Маяковский милостиво улыбнулся.
Своего профессора Булгаков назвал: Персиков.
Из воспоминаний о Маяковском. Стружки.
- Володя, ты совсем перестал заниматься французским языком!
- Тише, Лиличка, не спугни: он у меня сам собой зреет во рту, как колос.
- Сколько должно быть в пьесе действий?
- Самое большое пять.
- У меня будет шесть.
В конце вечеринки:
- Ну, товарищи, Олеша уже начал говорить по-французски. Пора расходиться.
- Сначала вы всех любите и вас все любят. И все идет хорошо. Потом вас все любят, кроме одной, именно той, которую вы любите. И так всегда.
- Плюну я, кажется, на все и буду читать свои стихи из-под полы по рублю за строчку.
- Коля - звезда первой величины.
- Вот именно. Первой величины, четырнадцатой степени.
- Чего бы вы хотели больше всего на свете?
- Иметь карликового бегемотика, ручного, чтобы он сидел под столом, как собака.
- А есть такие?
- Своими глазами видел в Америке. Стоят шесть тысяч долларов штука.
...Вот он теперь опять передо мной - то сидит, то встает, то ходит, то поворачивается в совсем уже темной комнате с посипевшими окошками, воплощенная метафора из "Облака".
"Меня сейчас узнать не могли бы: жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется! Ведь для себя неважно и то, что бронзовый, и то, что сердце - холодной железкою... И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное..."
* * *
Ну и так далее.
Прислушивался. Ждал. Сказал ходовую фразу, популярную тогда в нашей компании:
- Чарли ждет гостей, а гости не пришли.
Но как раз в этот миг в передней раздался звонок. Шум голосов. Вспыхнул свет. Восклицания. Все изменилось. Еще звонок. Еще восклицания. Стали подваливать выбранные Маяковским гости...
Что же было потом? Обычная московская вечеринка. "Завернули на огонек". Сидели в столовой. Чай, печенье. Бутылки три рислинга. Как большая редкость - коробка шоколадного набора: по краям бумажные кружевца, а в середине серебряная длинногорлая фляжечка ликерной конфеты. В виде экспромта, забавного курьеза остатки от обеда - миска вареников с мясом, которые еще больше подчеркивали случайный характер вечеринки, ее полную непреднамеренность. Сидели тесно вокруг стола. Стульев, конечно, не хватило. Мы с Маяковским рядом на большой бельевой корзине, покрытой шкурой бурого медведя.
Маяковский опирался локтем на громадную тяжелую медвежью голову, изредка ее приподнимал за черное рыло и нежно заглядывал в стеклянные карие глазки и в узкую крашеную пасть с белыми зубками и желтыми клыками.
Он был совсем не такой, как всегда, не эстрадный, не главарь. Притихший. Милый. Домашний.
- Владимир Владимирович, хотите вареников?
- Благодарю вас.
- Благодарю вас - да или благодарю вас - нет?
Можно себе представить, каким фейерверком острот, шуток, каламбуров взорвался бы в другое время Маяковский, не упускавший ни малейшего повода устроить блестящий словесный турнир и, разумеется, выйти из него победителем. В этой области у него не было соперников. И вдруг ему предлагают вареников - простых, обыкновенных, общечеловеческих вареников с мясом. Какой богатейший матерьял для остроумия, для словесной игры!
Однако в этот вечер Маяковского как будто подменили. Он вежливо отвечает:
- Да, благодарю вас.
Он, который даже в парикмахерской требовал:
"Причешите мне уши".
За столом в этот вечер острили все, кроме Маяковского. Молодые мхатовские актеры, львы, все время задирали знаменитого поэта и острослова, вызывая на турнир остроумия. Не без опаски пробовали свои силы. Но он либо отмалчивался, либо вяло отбивался. Можно было подумать, что он вдруг под действием какого-то странного волшебства потерял дар остроумия.
Но зато в нем в полную силу засияло другое качество - драгоценный дар душевного тепла, доброты, нежности, скромности, всего того, что он так застенчиво таил в своем большом жарком сердце.
Молодой Борис Ливанов, в те времена еще подававший большие надежды, красавец актер ростом почти с Маяковского, ну, может быть, на два пальца ниже, обаятельный простак и герой-любовник, уже хлебнувший сладкой отравы сценического успеха, весельчак и душа-парень, жаждал помериться остроумием с Маяковским и все время задирался, подбрасывал ему на приманку едкие шуточки, однако безрезультатно. Маяковский отмалчивался. Не отставал от Маяковского и молодой Яншин; тоже уже знаменитый на всю Москву, прославившийся в роли Лариосика в наимоднейшей пьесе Булгакова "Дни Турбиных", - тоненький, немного инфантильный, мягко ритмичный, полный скрытого мягкого юмора, не лишенного, однако, большой дозы сарказма. Такому - пальца в рот не клади, не доверяй его детской улыбке!
Если наскоки Ливанова на Маяковского имели характер железных перчаток, вызова на турнир, то реплики Яншина, сказанные слабым невинным комедийным голоском и поданные в духе дружеской шуточки, жалили Маяковского исподтишка, но тоже без видимого результата. Они не могли вывести Маяковского из того странного лунатического состояния, в которое он как бы погружался все глубже и глубже, лишь изредка приходя в себя - всплывая на поверхность - и оглядываясь по сторонам, ища точки опоры.
Человеческая память обладает пока еще необъяснимым свойством навсегда запечатлевать всякие пустяки, в то время как самые важные события оставляют еле заметный след, а иногда и совсем ничего не оставляют, кроме какого-то общего, трудно выразимого душевного ощущения, может быть даже какого-то таинственного звука. Они навсегда остаются лежать в страшной глубине на дне памяти, как потонувшие корабли, обрастая от киля до мачт фантастическими ракушками домыслов.
Память моя почти ничего не сохранила из важнейших подробностей этого вечера, кроме большой руки Маяковского, его нервно движущихся пальцев - они были все время у меня перед глазами, сбоку, рядом, - которые машинально погружались в медвежью шкуру и драли ее, скубали, вырывая пучки сухих бурых волос, в то время как глаза были устремлены через стол на Нору Полонскую самое последнее его увлечение, - совсем молоденькую, прелестную, белокурую, с ямочками на розовых щеках, в вязаной тесной кофточке с короткими рукавчиками - тоже бледно-розовой, джерси, - что придавало ей вид скорее юной спортсменки, чемпионки по пинг-понгу среди начинающих, чем артистки Художественного театра вспомогательного состава.
Это уже была не таракуцка, а девушка модного типа "ай добль-добль ю", как мы тогда говорили, цитируя стихи Асеева.