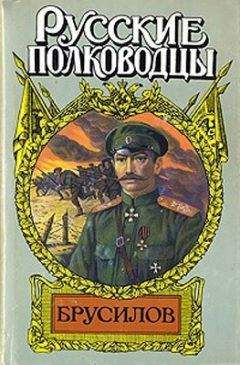Юрий Слезкин - Столовая гора
— Мы часто не знаем людей, которых встречаем ежедневно. Это страшно. Так можно пройти мимо Бога и не заметить его. Помнишь, как в одном рассказе Анатоля Франса? Два римлянина говорят о Христе {101}. Когда я думаю о Халиле, я чувствую себя маленькой и серой. Таким его, должно быть, сделали горы. Никто так не чувствовал жизнь, как он. Разве не ужасная нелепость то, что он, именно он — сидит в тюрьме. За что его можно судить? Ведь это только нужно понять. Ну, за что?
Ланская молчит, потом наклоняется над Милочкой и, глядя на нее и не видя, отвечает:
— Может быть, за любовь. Ты не думала об этом?
— Что?
— Я говорю, может быть — за любовь. Любовь — иногда тяжкое преступленье. Или оно влечет за собою преступленье. Я не умею выразить. Но все равно.
— Не понимаю.
— И не надо. Ведь ты его любишь.
Милочка резко приподымается и садится на оттоманке. Она смотрит на Ланскую — в глазах горечь.
— Не надо, не надо, не надо так говорить! — кричит она.— Это нечестно!
Они часто просят Дарью Ивановну погадать им на картах для Халила. Но после первого же раза Дарья Ивановна отказалась наотрез. Она разложила карты, посмотрела, застыла на мгновенье, уйдя в будущее, и тотчас же смешала их.
— Отстаньте,— говорит она.— Право, теперь не до глупостей. Нужно не гадать, а действовать.
И на лице ее завеса, точно отгородилась ею от всех, даже от дочери.
— Милочка, тебе не кажется, что за нами кто-то идет?
Ланская оглядывается и бежит дальше.
— Нет,— отвечает Милочка, хотя ей тоже страшно и отовсюду она ждет беды,— это тебе померещилось. Идем скорее — сейчас хлынет дождь.
И они снова молча бегут по одной улице, потом по другой, перебегают через площадь, где нежданно появившийся ветер швыряет им в лицо мелкую колкую пыль.
«Завтра все решится,— думает Ланская,— и тогда…» Что тогда? Ах, не все ли равно? Пусть даже опять — теплушки, вши, спирт, кокаин. Но нужно хоть раз суметь себя продать за дорогую цену. Жажда подвига? Нет, нет — какое там, скорее собачья благодарность. Он один — любил ее… Думала ли она когда-нибудь, за что он ее любил? За что вообще мы любим? Чем можно заслужить любовь? Вздор. Ни за что и ничем. Кто автор этой пьесы, в которой она сейчас играет?
— Просто скажите, что меня нет дома,— так она просила передать тому, кто придет к ней во вторник вечером. И не вернулась домой.
— Да, я счастлива и я поеду с тобой,— говорит она другому и остается дома. Кто автор этой глупой пьесы? И что хочет, чего добивается героиня? Может быть, это роковая женщина с дьявольскими желаниями, или маньячка, преследуемая навязчивой идеей? Или просто паяц, которого дергают за ниточку? Пустяки — она ни то, ни другое, ни третье, а то, и другое, и третье, потому что она актриса, плохая провинциальная актриса, нюхающая от скуки, от пустоты, от злости кокаин, меняющая мизансцены по указанию режиссера. Прежде всего не верит тому, что пытается изобразить. Она никогда не входит в круг, никогда. Но, может быть, и это вздор?
Он сидел в первом ряду — один в пустом зале и кланялся. Кланялся.
За спиной опять догоняющие твердые шаги. Она оборачивается, пыль засыпает ей глаза, и она кричит протяжно и дико:
— Ми-илочка-а!
Спокойный, сдержанный голос отвечает ей:
— Успокойтесь. Я не хотел испугать вас. Но когда гора не идет к Магомету… Вы способны уделить мне минутку внимания?
Милочка стоит рядом и дрожит мелкой внутренней дрожью, хотя тотчас же узнает подошедшего к ним Петра Ильича.
— Что вам нужно от меня? — спрашивает наконец Ланская. Она берет себя в руки, говорит спокойно, но глухо.
— Почти ничего,— отвечает тот,— наши свидания никак не могут состояться…
— И вы бегаете за мною по пятам, вы ходите в театр, пугаете меня, преследуете ночью по улицам?
— Уверяю вас, что все это ваша фантазия. В театре я не был ни разу и не собирался вас преследовать. Встретились мы совершенно случайно, но встрече этой я очень рад.
— Что вам нужно? — повторяет она.
— Пожелать вам всего лучшего. Завтра я уезжаю.
Она еще сильнее берет себя в руки и молчит. Ей показалось только на мгновенье, что она покачнулась. Но это пустяки.
— Счастливого пути,— говорит она ему рассеянно и поворачивает ему спину.
Она делает несколько быстрых неверных шагов. Милочка следует за ней. Ветер подхватывает их сзади, и тотчас же с неба обваливается водяная лавина — заливает с ног до головы.
Ланская ищет в темноте Милочкину руку, сжимает ее и стонет, может быть, зовет кого-то.
Но грохот дождя заглушает зов.
14
— Нет,— говорит Милочка и снова садится на оттоманку, подбирает под себя ноги, по уши кутается в большой теплый платок. Она уже не придет. Она не может прийти так поздно. Уже ведь нет пропуска.
Милочку знобит весь вечер. Она очень плохо чувствует себя. Малейший стук или плач ребенка у соседей ее тревожит, приводит в нервное состояние.
Под глазами у нее темные круги и на щеках нет обычного румянца. Вся она кажется меньше. Агатовые глаза ее потухли. Но все-таки она и сегодня сама отнесла Халилу передачу, а потом зашла в Росту за номером журнала. Домой вернулась вместе с Алексеем Васильевичем, которого встретила на месте его новой службы.
Они прошлись по бульвару, поджидая у театра Ланскую. Ветер подымал перед ними пыль и шумел в ветвях поблекших деревьев. По небу разворачивались серые тучи — предвестники ранней осени.
Но Зинаида Петровна не пошла с ними. Она вышла из театра, увидела Милочку и кивнула ей головой.
— Разве ты не с нами?
— Нет.
— Когда же ты вернешься?
— Не знаю. Мне нужно еще во много мест. А потом…
Она смотрит в сторону. Вся она подобрана, напряжена, как человек, готовящийся к прыжку в ледяную воду.
Милочка догадывается, и холодная дрожь ползет по спине и не оставляет ее.
— Сегодня? — спрашивает она, и в горле у нее становится сухо.
— Да, сегодня вечером.
И Ланская кивает еще раз головой стоящему в стороне Алексею Васильевичу и убегает. Ветер треплет край ее синей юбки, точно подхлестывает.
— Этого не следует делать,— хочет сказать Милочка и не может. Она стоит и смотрит вслед убежавшей подруге и молчит. «Может быть, так лучше,— шепчет она,— может быть, лучше». И уже начинают дрожать губы; внутри у нее все дрожит противной мелкой собачьей дрожью, но она пытается улыбнуться.
Ведь завтра, наверное, Халил будет свободен. Наверное.
— Вам холодно? — спрашивает ее Алексей Васильевич и берет под руку.
— Да, мне немного холодно.
Она смотрит на обложку журнала, в котором напечатаны ее стихи. Зачем, собственно, они ей нужны? Что она станет теперь с ними делать?
В окне ветряная муть. Дарья Ивановна ходит по столовой, звенит стаканами — готовит к чаю. Милочка знает, что и она волнуется, что ей тоже не по себе. Дарья Ивановна всегда волнуется, когда ее нахлебники не приходят в положенный срок.
Вахтин сидит в столовой за столом и штурмует «Азбуку коммунизма» {102} — он готовится к лекции.
Алексей Васильевич на другом конце оттоманки. Милочка чувствует на себе его внимательный наблюдающий взгляд. Она берет журнал, разворачивает его и читает первые попавшиеся на глаза строки. Ей хочется отвлечь от себя внимание Алексея Васильевича, но голова ее пуста, она не знает, что сказать.
Страна белоснежных медведей,
страна мужиков,
Под тяжестью многих веков
изнемогавшая от ран.
Россия стала самой свободной,
Самой свободной из всех стран…
Дальше она не читает, она смотрит на страницу журнала и думает, напряженно, сосредоточенно, стиснув зубы, думает.
— Сколько дней уже прошло со дня ареста Халила? — спрашивает Алексей Васильевич.
Она не сразу отвечает ему, она даже не понимает его вопроса.
— Что вы говорите?
— Я хотел спросить, как долго Халил сидит в чека? Дело в том, что у меня очень скверная память на числа.
Теперь она подымает глаза и в упор смотрит на Алексея Васильевича. Только одни глаза ее и видны над платком.
— Он в заключении уже три недели,— отвечает Милочка,— ровно двадцать три дня. Но зачем вы меня сейчас об этом спрашиваете?
— И дело его не рассмотрено?
— Нет,— говорит она резко и сбрасывает с себя платок,— нет — дело его не рассмотрено. И он может сидеть еще месяц, два, целый год. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?
Ей теперь жарко, даже душно, все тело ее горит, и кровь приливает к вискам.
Она стоит на коленях и теребит попавшуюся под руки подушку, она сама не отдает себе отчета, почему так сильно ее возмущение.
— Вы опять хотите смутить меня. Вы знаете, как дорог мне Халил, и нарочно спрашиваете, как долго он арестован. Я до сих пор помню ваш рассказ о гуманном человеке. Вы приходите в ужас от созданной вами картины и заставляете бояться других. Вот видите — Халил в тюрьме, говорите вы, и этим для вас все сказано. И видит бог, как я хочу, чтобы Халил вышел на свободу, как я думаю об этом. Потому что ему больше, чем кому-либо из нас, нужна она. Но вот он сидит там и пишет — «да будет благословенна жизнь!» — и я его понимаю. Ему чуждо то, что происходит у нас, но он гораздо ближе к истине, чем вы, гораздо ближе… Даже если произойдет самое ужасное, самое непоправимое — если Халил перестанет жить. Слышите… если его убьют. Понимаете? Потому что… потому что… мы сами во всем виноваты. Мы сами! И винить нам некого, если здесь нам не место. Некого.