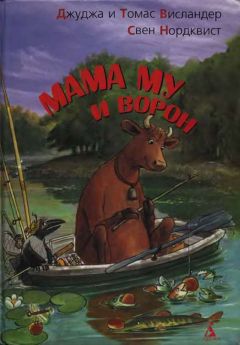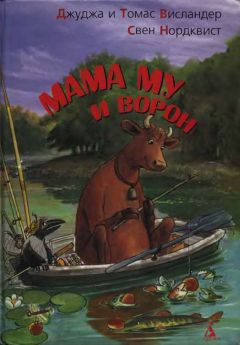Мустай Карим - Долгое-долгое детство
- Кажись, катык больно медов оказался. У Нисы вон губы слиплись... - сказал мой отец. - И голоса не подаст.
- Ничего, агай, вечером от жирного мяса разлепятся, - сверкнула мелкими зубами Ниса, - лишь бы мяса вдоволь было.
Все уже встали с места, один только Исхак с самого края остался сидеть. На свадьбу ли, на похороны, на выпивку ли, на "помочь" - Исхак приглашения не ждет, сам приходит. Он и есть первейшая в ауле "мерзлая нога".
Так у нас беззастенчивых называют, которые зимой, в гостевую пору, без зова-приглашения из избы в избу ходят. Ходят так, что лапти обледенеют. Оно и понятно, только под одним столом подтают, да не просохнут, как к другому застолью надо идти. Исхака и гнать не гонят, и в красный угол не сажают. Он свое место, чин свой знает. Его место в самом низу, на самом краю. У этого худосочного длинного человека с маленькой головкой на слабой, со скалку толщиной шее странное прозвище - Царская Казна. А такая "казна" вот что означает: обжора невероятный, а сало на кости не пристает. Жрет: и сыт и не сыт, и стыд не в стыд. Кто когда его этим прозвищем наградил, никто не знает. Но этот забитый, почти до пятидесяти доживший одинокий человек и после того, как царя скинули, все Царской Казной ходит. Рубаха на нем из ситца в крупный цветочек. Из такого у нас женщины наволочки на подушки шьют, потому что самый дешевый товар. Опять, забегая вперед, скажу: по нынешним временам, Исхак из самых модно одетых мужчин оказался бы.
Исхак допил из миски и начал вылизывать дно.
- Ну что, Исхак, наелся? - спросил отец.
- Нет, агай, не наелся, наполнился только, - отирая обильный пот с тощей шеи, ответил тот.
- Эй, Исхак! Спор есть! Выиграешь - ремень с себя сниму, твой будет! - сказал наш рыжеусый сват Хисматулла. Он во всей округе первый спорщик. Однажды в какой-то чувашской деревеньке лошадь свою проспорил, так сам в телегу впрягся и домой прикатил. "Лошадь ведь и пасть могла", - утешил он свою жену. "Хорошо, что проспорил только. Жалко было бы, если бы померла, очень уж справная лошадь", порадовалась наша простоватая сватья.
Да ведь и Исхаку об заклад биться не впервой. Хотя на схватку выходит не он, а его живот. И сейчас он быстро смекнул, в чем дело.
- На сколько?
- С верхом полных десять ковшей.
- Спорят! Спорят! - зашумел народ. - Эй, не упустите! Исхакбогатырь на бой выходит!
Все тут же обступили спорщиков.
- Ну-ка, покажи ремень, - сказал Исхак. Хисматулла тут же снял его с пояса. Желтый, кожаный, с широкой медной пряжкой - чудесный был ремень у Рыжего свата! Исхак взял, покрутил его, осмотрел.
- Натощак твой ремень пятнадцать ковшей стоит, на все двадцать даже потянет. А сейчас больше пяти не смогу.
- На девять! На девяти соглашайтесь! - крикнул кто-то.
- Шесть, - упорствовал Исхак.
Рыжий сват прямо вырвал ремень из его рук. И ведь не ремень состояние целое.
- На шесть ковшей я вон и с Пупком спорить не буду, - ткнул он подбородком в меня.
Та-ак, сват... Значит, меньше меня, немощней меня и человека не нашлось? Правая рука моя взметнулась к фуражке. Взметнулась, но тут же опустилась. Хлопнул бы шапкой оземь, побился бы об заклад - людей только совестно. Как-никак эти рыжие оскребки - сват наш.
- Братья! Войдем в положение сытого Исхака: восемь опрокинет - и ладно, - пророкотал Надовражный Тимербай. Если пустую бочку вниз по склону пустит, она точь-в-точь его голосом загремит.
Остальные поддержали Тимербая:
- Восемь в самый раз! Пусть эти еще уместит.
- И у Исхака, наверное, утроба не без кишок!
- Да и восьми не сможет! Надорвется!
- Не тот уже Исхак, сдал...
Это нарочно говорят, чтоб его раззадорить, сразу видно. Исхак дважды гулко хлопнул себя по животу.
- Богу доверимся. Лопнешь, так лопни, только меня не посрами, молвил он. - Несите катык. Считайте до восьми, дальше видно будет.
Принесли большой жбан катыка, порядком вместительный ковш.
- Черпай, ровесник, - сказал Исхак Тимербаю, - ты человек справедливый, твоя рука легкой будет.
- Ну, сядем. Ты, Исхак, тоже садись, - сказал отец. Все, кто стоял, там и сели. Один Исхак на ногах остался.
- Я бы стоя пил, если разрешение будет... - он просительно посмотрел на моего отца.
- Нет разрешения! - отрезал владелец ремня. - Пищу уважать надо.
Ясное дело, он это не из почтения к пище сказал. Просто, если стоя пить, в утробу больше входит. Вот чего боится, рыжий черт.
- Ладно, будь по-твоему, - согласился Исхак.
Сесть он все равно не сел, только опустился перед миской на колени. Сейчас он походил на журавля, который вот-вот взлетит.
Тимербай зачерпнул первый ковш. Исхак начал прихлебывать. Еле тянет, даже не чувствуется, чтобы по его тощему горлу продвигался катык. И второй ковш он выпил так же не спеша. Когда за третий принялся, народ начал роптать:
- Конечно, еле шевелится, з н а м о, выиграет.
- Никак, до вечера задумал дотянуть, Исхак?
- Это разве спор? - недовольно сказала одна девушка. - Как сиротливый теленок тряпку сосет.
- Разжижаешь, Исхак, сон нагоняешь!
Исхак на них и не покосился даже. Но все же четвертый ковш выпил быстрее. Пятый и шестой он опрокинул одним духом. Его большой выпирающий кадык сновал от подбородка к ключицам. Здесь все "помочники" медленно-медленно, так сидя, и подъехали к Исхаку. Понемногу они совсем окружили его. Протягиваясь к седьмому, Исхак глубоко вздохнул. Пот, до этого падавший каплями, теперь уже струйками бежал. Когда он поднес ковш ко рту, послышалось бульканье частых и крупных капель. Живот его под цветастой рубахой вздулся, как хорошо набитая подушка. "Подушка" не колыхнется даже. Каким же местом дышит этот смертный? Седьмой ковш он в три приема выпил. Выпил и рыгнул.
- Прорвало затор, - одобрил кто-то, - освободилось место.
Но, видно, места все же немного освободилось. Последний ковш Исхак пил тяжело, мучительно. Глотнет катыку, а он не заглатывается. Люди, смотря на него, сами вытянули шеи и начали старательно глотать Исхаку помогают. Сначала глотками, потом по каплям, но все же катык убывал. Убывал-таки. Завидев дно, Исхак хлебать перестал, высунул длинный белый язык и, как кошка, принялся вылизывать. Все вылизав, подбросил пустой ковш вверх и поймал. И капля не капнула. Рыжий сват подошел и без слова повесил желтый, кожаный, с широкой медной пряжкой ремень Исхаку на шею. Такой ремень - один на всю страну. И в этот миг я в первый и в последний раз в жизни увидел на лице Казны-Исхака лукавую улыбку.
- Давай, усишки, - сказал он, - продолжим спор.
- Говори условие! - опять загорелся наш сват.
- Решишься перед всем народом из штанов завязку вытянуть - еще два опрокину.
Опять поднялся шум:
- Давай, давай, усатый!
- Ай, маладис, Исхак, ну и хват, оказывается!
- Держись, куда восемь вошло, еще два войдет!
- Ну, рискни же!
- Вот бесстыдники! - заверещала одна женщина. - Нашли потеху "помочь" срамить!
- Согласен! Черпай, Тимербай! - вспетушился Рыжий сват. - Коли срамно будет - пусть стыдливые отвернутся.
Но тут победитель-богатырь схватился за живот и рысцой побежал за копны. Ни днем на жатве, ни вечером в застолье он больше не показывался.
Но с того дня и покуда не оставил этот мир, ремня Исхак не снимал. С ремнем его и похоронили: говорят, это был его единственный перед смертью наказ. Может, самым большим его жизненным выигрышем, самой высокой завоеванной наградой и был этот ремень...
Но главный спор, главное состязание было, оказывается, впереди. После обеда оставшиеся наделы дожинали все вместе. В "помочь" народу много, так что не вдоль, а поперек жнут. Уже ближе к вечеру все "помочники" с промежутками в три-четыре шага встали от края до края последнего осьминника.
Девушки в белых фартуках, женщины в платках с завязанными на затылке концами, юноши в распахнутых рубахах, мужчины с мокрыми от пота и белыми от соли спинами, положив серпы на плечи, на мгновение умолкли. Поле вызревшей ржи, застыв, как тихое озеро, дремало перед нами. Кажется, прыгнут сейчас люди с берега и поплывут, широко раскидывая руки.
Вдруг Ак-Йондоз, стоявшая между Нисой и Хамзой, решительно выступила вперед. Вышла и быстро повернулась к нам. Сначала она подоткнула подол зеленого сатинового платья, по локоть засучила рукава, косы с звенящими накос-никами обвила вокруг шеи и завязала за спиной. И только потом, как выдергивают саблю из ножен, взмахом сняла с левого плеча с красной ручкой лунный серп свой. В ее глазах прыгали искорки непонятной, дотоле невиданной в ней удали. Всегда улыбчивые красивые губы сейчас сузились и затвердели.
Ждут. И Ак-Йондоз стоит, чуть расставив ноги. Казалось, очень много времени прошло. В какой-то миг мне даже почудилось, что все это происходит во сне. Нет, пока что явь. Эта красивая сноха, стоящая сейчас на меже, еще много раз потом будет приходить в мои сны. И вот так же будет стоять: то на острие высокого утеса, то над самым краем страшного водопада, то в горячих струях гудящего пожара. И, взмахнув над головой лунным осколком серпа, готова уже будет полететь со скалы, упасть в стремнину, рухнуть в огонь, как я проснусь. Лишь в яви еще блеснет прощально ее серп с красной ручкой. Проснусь - и радости моей не будет конца.