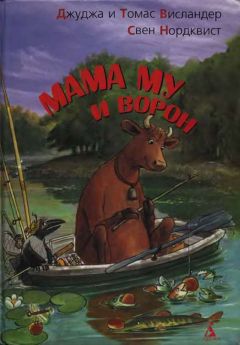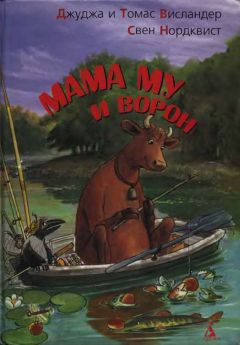Мустай Карим - Долгое-долгое детство
- Все время я тебя теряла... Первый раз, ты еще грудным был, возвращались мы из Кара-Якупа, из гостей, и я тебя возле этого моста обронила. Задремала, видать, а сани по скату скользнули, накренились, ты, завернутый в одеяльце, и вывалился. Только уже возле дома, когда в ворота въезжали, заметили, что тебя нет. Повернули и обратно поехали. Хорошо, ночь лунная была. Ты далеко от дороги откатился. И даже не проснулся. От Старшей Матери этот случай укрыли... На косовицу возьму - в лесу потеряешься, на жатву возьму - во ржи заплутаешься. На чишминском сабантуе за балаганщиками увязался и потерялся. Чуть оперился, совсем, с головой уже стал пропадать. Про войну и не говорю - то без вести пропал, то похоронная на тебя приходила... И сейчас, бывает, во сне тебя теряю. Теряю и в страхе просыпаюсь.
Я не успокаиваю ее. И обещать, что больше пропадать не стану, тоже не могу. Дорога-то еще не кончилась.
Когда она разговорится, я не встреваю - сама свяжет, сама нанижет. Да, связала и дальше повела.
- А вон когда из той лощины на эту сторону поднималась, в первый раз с твоим отцом лицом к лицу сошлись. Была я тогда вдовой тридцати лет. В те времена мы каждой весной всей улицей ивовое корье ходили драть. Валикей-бай за каждую связку по пятнадцать - двадцать копеек давал. Мы и на том рады. И вот здесь на склоне верхом на вороном жеребце догнал меня твой отец. Я его годом раньше на жатве у Ильясамуэдзина видела. Но тогда и словом не перемолвились. А сейчас он неслыханную дерзость проявил. Я так вся и обмерла - и от страха, и от восхищения. Он проскакал чуть дальше и, резко осадив коня, среди бела дня перед всеми женщинами приказал мне:
- Вазифа, отстань-ка немного. Поговорить надо!
Сказал он повелительно, но голос был мягкий. Я, растерявшись, на своих товарок поглядела. Ямал, которая среди нас считалась самой бойкой, засмеялась:
- А что, оставайся. Небось не съест.
Я не остановилась, так и шла с подругами. А отец твой - будто каменный, застыл со своим конем, не шелохнется даже. Прошла я немного, и ноги стали отказывать, дыхание сжалось, сердце в висках колотится. Склон передо мной отвесной скалой взметнулся. Идти не могу. Связка ивового корья на плечо давит, к земле жмет. Стала. Стук копыт тут же догнал меня.
- Дай ношу, на седло положу.
Я заупрямилась еще: сама, говорю.
- Дай! - снова приказал он. - Поговорить надо. А как мне говорить, когда ты с ношей? - он нагнулся, снял бремя с моего плеча и положил на луку седла.
Первый раз такого властного мужчину вижу, но властность эта меня не принижает. Но все же растерялась, рассудок рассыпается. Только его круглую, тронутую сединой бороду и вижу. Сколько же ему лет?
Так, не начиная разговора, долго шли.
- Я и голоса твоего еще не слышал. А душа давно уже тебя знает, сказал он тихо. - А ты меня, мою жизнь, мой нрав, наверное, знаешь. В одном ауле живем. Сейчас весна. Лето думай. Осенью, коли дашь знать, что согласна, пошлю сватов. А она, с которой я жизнь прожил, свое согласие дала. Опять скажу: не затем одним все это, что мне молодая жена нужна, ты в душу мою вошла. - Он усмехнулся. - Скажу, что любовь, да стыдно в мои-то годы. Сорок девять мне.
Я и рта не раскрыла. И радостно и стыдно. Да если бы и не застыдилась, что бы сказала? Так верхом да пешком дошли до Губернаторской.
- Вязанку я во двор твоим старикам закину, - сказал он.
- Нет, спасибо. Сама донесу.
Он не настаивал. Ношу свою я за спину не закинула, на плечо положила - плечо распрямилось, словно не ивовое корье на нем, а лебединый пух. К земле не гнет, в небо тянет... А твой отец круто завернул коня и поскакал обратно. Недолго прошло, а Старшая Мать через верного человека свое благословение прислала...
Фотограф и справа зайдет, и слева, и спереди на корточки присядет, а то и вовсе на траве растянется - и щелк да щелк своим аппаратом щелкает. Уж этого Младшая Мать без внимания оставить не могла, тут же платок на голове поправила, складки на подоле праздничного платья ладонью разгладила.
- С отцом твоим, покойным, ни разу на карточку не снялись, так жалко... - сказала она словно про себя.
Фотограф, как и обещал, с разговорами не надоедал. Но все же помытарил нас изрядно. И так и эдак стоять заставил, туда-сюда пройтись велел. Но, коли у человека работа такая, мы не роптали.
- За то, что землю нашу увековечил, спасибо, сынок, - сказала ему Младшая Мать. - А жизнь человечья... твой ли один щелк, мои ли девяносто лет - все одно... Фотограф землю нашу и нас самих "обессмертил" и пошел своей дорогой.
А мы с Младшей Матерью по узкой пыльной тропинке пошли вниз. По ней мы когда-то, каждый в свое время, в свой черед, бегали босиком. Мы пошли к Мукушеву роднику. Захотелось вдруг зачерпнуть в ладонь и глотнуть его студеной воды. Не от жажды, а просто, говорю же, захотелось. Может, вот так вдвоем и не придем сюда больше... Неведомо.
А две пары ножек, оставив в пыли маленькие, как дубовые листочки, следы, уже пробежали вниз к роднику. Нашлись, значит, и нас попроворней...
ЧЕРНЫЕ УГЛИ НА БЕЛОМ СНЕГУ
Однажды утром Младшая Мать, которой уже на десятый десяток пошло, сидела притихшая, опечаленная чем-то. Когда же я спросил, здорова ли она, ответила "здорова" и даже улыбнулась. Но все равно вид был у нее невеселый. Я стал допытываться, и она сказала:
- Я сегодня на заре плакала.
- Отчего?
- Да так... По старости-дурости, наверное...
К материнским слезам равнодушным не останешься, особенно если матери за девяносто, а сыну под шестьдесят. Я снова и снова спрашивал:
- Может, обидели? Или болезнь затаила?
- Я жалеючи плакала.
- Кого?
- Кудрявую босоногую девочку. Восемь лет ей всего.
- Чья девочка?
- ...Не было в доме спичек очаг разжечь, и ярым морозным утром дала мать девочке совок в руки и отправила к соседям за горячими углями. В одном платье, босиком, выскочила она из дома. Вот уже и обратно бежала, да возле самого порога поскользнулась она и упала. Все угли так и разлетелись из совка. Будто черные горючие слезы прожгли белый снег. И девочка как сидела, так и заплакала горько. Голые пятки ко льду пристыли. Этой девочкой я была. Проснулась сегодня на рассвете и от жалости к тому ребенку заплакала. Плачу, удержаться не могу. Если бы можно было, в самые теплые свои одежды ее одела, самыми вкусными своими яствами угостила. Если бы можно было... Да нет, невозможно. Плачь, убивайся, невозможно... Вот оттого, что ничего уже не поделаешь, я и плакала...
Вот ведь как. И счастливое, и несчастливое детство наше еще долгиедолгие годы следует за нами. А вернее, так и живет в душе, не уходит.
Про Младшую Мать говорю - больше восьмидесяти лет прошло, а она о своем детстве, о том, которое босиком по снегу бежало, плачет. Не ребячество ли? Наверное, ребячество. А в ребячестве - чистота.
...И от рассыпавшихся угольков белый снег черным не станет...
1972-1976, 1978