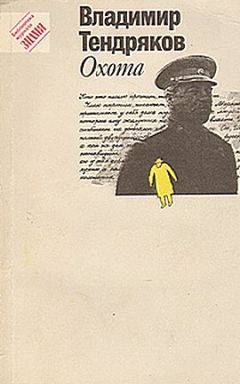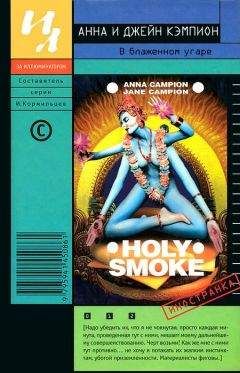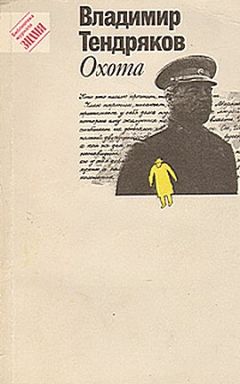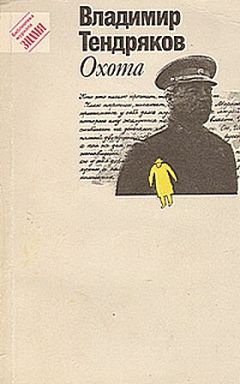Станислав Шуляк - Лука
- Я тоже решила теперь стать суровым человеком по причине маскулинизации, - шепнула она молодому человеку, рассчитывая, кажется, на полное понимание Луки. - О, маскулинизация, маскулинизация!.. Природное явление. И жаль только, что и я не умею, как вы или наши академики еще, выражаться так же с самой утонченной и изысканной справедливостью, в самой благородной форме... Или еще, например, как покойный Декан...
- Да-да, конечно, это совершенно верно. Зато у вас есть другое, говорил еще ей в виде комплимента Лука, - это некоторая особенная, отдельная, независимая сила. А также прямота и убежденность, что по-иному вполне стоит всякой справедливости суждений.
Деканова секретарша же только тогда задумчиво покачивала головой. - О, плюрализм, - объясняла еще она Луке с чьего-то очевидного закулисного нашептывания, - плюрализм - это точно несомненная расплывчатость. Расплывчатость всего возможного. Всяких свойств и стремлений мира. А вше теперешнее многоединство - покойного Декана и ваше, и всех академиков, и иных служителей в соответствии с их разнообразными рангами - оно составит когда-нибудь особенную славу Академии. Непосягаемую, вопиющую славу, и сладко окажется тогда безыскусно и просто внимать таковой. Жизнь же моя вся в полном сожалении об иных неказистых мальчишках, в воображении прикидывающихся изгоями Эроса...
Иногда же еще неожиданно в размеренное течение беседы вмешивались и какие-то голоса, все людей невидимых тут воочию (хотя и находившихся в непосредственной близости; буквально-таки рядом), а также хорошо известных своей обычной непререкаемой авторитетностью всех высказываний, и они также еще только осложняли теперешнее обоюдное понимание Луки и Декановой секретарши. Потом Лука давал девушке какое-то новое поручение (кажется, начертить что-то в трех проекциях), и она выполнила это поручение с суровой простотой. А еще, чтобы отличиться перед Лукой, так начертила даже больше, чем в трех.
Потом еще тоже происходили какие-то странные события, непонятные и тревожные, и Лука так был даже рад, что не слишком он их тогда запомнил во сне. Ехали все странные синие машины по дорогам, и все разбивались о головы карликов. Птицы летали, и дымом подтачивало на глазах их широкие крылья. Он увидел также потом и свой дом, где-то построенный в стороне, и возле него была уже несомненная, ожесточенная давка народов...
А на другой день (уже не во сне), когда Деканова секретарша заходила к Луке в кабинет по всякой служебной необходимости, молодого человека необыкновенно поражал всегда какой-то растерянный, несосредоточенный вид Декановой секретарши, и он бы, наверное, так и остался в неведении относительно причин этого ее особенного состояния, если бы девушка, опустивши глаза, вскоре сама не созналась Луке очень неуверенным, против обыкновения почти неслышным голосом:
- Я... если бы это... если бы все было не во сне, я бы ни за что точно... никогда не позволила себе в чем-то наставлять вас. Вы сами знаете, как и что нужно строить, и не нуждаетесь точно сами ни в каких наставниках...
- Да нет, это ничего, ничего, - отвечал ей Лука, - я и не думал, что это будет вас так беспокоить. Это все ничего совершенно вовсе... А иногда даже, наверное, и противоположному следует быть...
Но Лука еще потом с удивлением узнал точно (по каким-то косвенным, труднообъяснимым, посторонним, но вместе с тем - несомненным признакам), что многие еще в Академии из его окружения (даже отдаленного): и друзья его Иван, Марк и Феоктист, и человек сурового вида, и все его знакомые академики, и безумные Марковы женщины, и многие студенты - все они, кажется, разом как будто видели один и тот же странный сон о его неудачном строительстве, и можно было подумать, что это их всех приводило в некоторое заметное смущение, как если бы они узнали страшную, неразглашаемую тайну и теперь сомневались в своей способности и достойности сохранить ее.
Из всей беспрестанно приходившей к нему корреспонденции - по почте или всяким иным способом - Лука более всего внимательно прочитывал Декановы письма, справедливо предполагая в них особенно важные наставления для своей ежедневной руководительской и научной деятельности, а последнее Деканово письмо так и вовсе, бывало, перечитывал не по одному разу в день, обязательно поражаясь всем непринужденно развертывающимся в нем духовным глубинам и иногда только немного сожалея, что и сам он не может тоже ответить покойному Декану письмом и, может быть, сообщить тому о своих значительных и противоречивых чувствах. Он еще часто вспоминал из последнего письма - из всей его моторной и многоцветной стихии - одну фразу, неожиданно оставившую в его памяти волнующий отпечаток; соображения его были обстоятельны, серьезны и всесторонни. Жизнь академика Платона Буева и его особенное драматическое моральное низвержение теперь отчего-то весьма занимали Луку, и даже как психологический феномен, редкий и поучительный.
Однажды Лука, вставши из-за своего стола, подошел к стенке (ближайшей из них тогда в кабинете и возле которой стояли широкие, неизмеримые стеллажи со столпившимися на них тяжелыми учеными фолиантами) и несколько раз уверенно постучал в стену костяшками пальцев. Он и сам бы не мог потом точно сказать, на что он рассчитывал тогда своею уверенностью и что побудило его к такому неординарному действию, и в первую минуту и точно не случилось ничего, как Лука ни прислушивался к тишине, царившей в Декановом кабинете, но после он вскоре вдруг угадал какой-то тихий шорох за отделявшей его преградой; наверное, там раздумывали или тоже прислушивались, а потом Лука отчетливо услышал и какой-то негромкий стук из-за стены не иначе как точно ему в ответ.
Все еще не доверяя себе, Лука снова постучал в стену и тотчас же услышал и ответный стук, в котором теперь уже несомненно угадывались, кажется, готовность, доброжелательность и радость.
- А вот же это Платон Буев теперь... - думал Лука, снова отходя к своему столу и все еще поглядывая на стену. - Все вовсе он там один. Многое точно было у него прежде. Много славы и еще сладкого умственного восторга от наук. Да, а еще наши утраты, даже более всех надежд - они составляют обычно необходимое достояние человека. И, может быть, даже кто-нибудь ему посочувствовал точно, его нынешнему отшельничеству, непосвященные во все злонамеренные скитания его изощренного разума, тем более, разумеется, по причине злостного тяготения к аморальному в народе. И какое же точно было тогда, подумать только, недружелюбное направление его известной изобретательности. И что-то такое это вообще за жизнь человеку без его особенного обязательного чрезмерного принародного покаяния!..
Однажды (по распоряжению Луки) осветили темные углы Деканова кабинета специальными лампами, так что они стали светлыми, но оказалось, что и тогда там, как бы ни стараться, ничего толком не разобрать. Причем, все время казалось, что там все хорошо видно, а на самом деле все было видно не так, как оно есть, и нужно было очень долго тогда вглядываться, чтобы хоть что-нибудь разглядеть так, как оно там было в действительности.
Когда все разошлись (никто, разумеется, из нашего народа не был способен ни к какой пристальности, хотя бы даже сообщающей справедливые познания), Лука долго вглядывался во вновь освещенные пространства, до тех пор, пока ему понемногу наконец не стало открываться едва различимое, непонятное, бледное движение.
Он увидел небоскреб и немолодого точильщика-инвалида, сидевшего у подножия стены небоскреба на тротуаре, тот, подслеповато щурясь от света, пригнувши голову, иногда испуганно поглядывал в сторону Луки и невольно осторожно сдерживал потрепанным сапогом беспорядочное вращение своего расхлябанного наждачного круга. За небоскребом был зоопарк (Луке теперь все более открывалось подробностей в наблюдаемом им), виднелся уголок террариума с неторопливо извивавшимися в нем холодными гадами, была клетка с двумя обезьянами, одна из которых корчила другой рожи, а другая только печально и сосредоточенно глядела в сторону перед собой и равнодушно ковыряла в своем волосатом ухе крючковатым пальцем; в вонючем бассейне в глубине грязной воды что-то такое копошилось с неизменной и однообразной настойчивостью, но, так как оно ни разу не высунулось из воды, то и невозможно было определить точно, что же там такое находится.
Из небоскреба выходил все плутоватый и предприимчивый народ и поспешно рассеивался по тротуару.
Что-то такое совершенно поражало во всей работе точильщика. Лука и сам поначалу не совсем понимал своего удивленного чувства, пока наконец не заметил, что от наждачного круга нисколько не сыплется искр, хотя точильщик то и дело проводил по быстро бегущему кругу звонкими лезвиями, все более разгоняя круг ногой и делая на лице отчаянно-свирепые выражения. Приглядевшись, Лука обнаружил, что круг у точильщика был обмотан мягкой, залоснившейся от трения плюшевой лентой, и хотя ножи оттого, к сожалению, нисколько не точились, зато и не было слышно обыкновенного в таких случаях, неприятного, хватающего за душу скрежета, и точильщик только иногда исподлобья поглядывал на Луку, как будто бы укоризненно сообщая ему - вот, мол, что из-за вас приходится непременно терпеть.