Владимир Тендряков - Охота
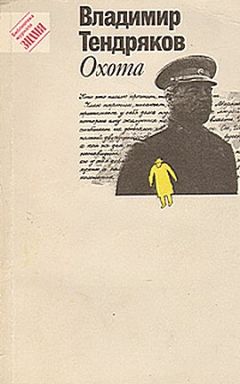
Обзор книги Владимир Тендряков - Охота
Тендряков Владимир
* * * *
Охота
Охота пуще неволи
Осень 1948 года.
На Тверском бульваре за спиной чугунного Пушкина багряно неистовствуют клены, оцепенело сидят старички на скамейках, смеются дети.
Чугунная спина еще не выгнанного на площадь Пушкина — своего рода застава, от нее начинается литературная слобода столицы. Тут же на Тверском дом Герцена. Подальше в конце бульвара — особняк, где доживал свои последние годы патриарх Горький, где он в свое время угощал литературными обедами Сталина, Молотова, Ворошилова, Ягоду и прочих с государственного Олимпа. На задворках этих гостеприимных патриарших палат уютно существовал Алексей Толстой, последний из графов Толстых в нашей литературе. Он был постоянным гостем на званых обедах у Горького, и злые языки утверждают — граф мастерски наловчился смешить олимпийцев, кувыркаясь на ковре через голову. А еще дальше, минуя старомосковские переулочки — Скатертный, Хлебный, Ножевой, лежит бывшая Поварская улица, на ней помещичий особняк, прославленный в «Войне и мире» Львом Николаевичем Толстым. Здесь правление Союза писателей, здесь писательский клуб Москвы, здесь писательский ресторан. Здесь, собственно, конец литературной слободе.
Но, наверное, нигде литатмосфера так не густа, как в доме Герцена. И если там в сортире на стене вы прочтете начертанное вкривь и вкось: «Хер цена дому Герцена!», то не спешите возмущаться, ибо полностью это настенное откровение звучит так:
«Хер цена дому Герцена!»
Обычно заборные надписи плоски,
С этой согласен
В. Маяковский!
Так сказать, симбиоз площадности с классикой.
В двадцатые годы здесь находился знаменитый кабачок «Стойло Пегаса».[1] В бельэтаже тот же В. Маяковский, столь нещадно хуливший дом Герцена, гонял шары по бильярду, свирепым басом отстаивал право агитки в поэзии:
Нигде кроме
Как в Моссельпроме!
А под ним, в подвале, то есть в самом «Стойле», пьяный Есенин сердечно изливался дружкам-застольникам:
Грубым дастся радость.
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.
Но осень 1948 года, давно повесился Есенин и застрелился Маяковский.
А в доме Герцена уже много лет государственное учреждение — Литературный институт имени Горького.
Это, должно быть, самый маленький институт в стране; на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас — конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами — студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походя читаются стихи и поется сочиненный недавно гимн:
И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать.
Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.
— Дайте закурить, ребята.
Он был автором повально знаменитой:
Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса!..
Детище бурно жило, забыв своего родителя. «Тачанку» пели во всех уголках страны, а Рудерману не хватало на табачок:
— Дайте закурить, ребята.
Его угощали «гвоздиками».
Где-то за спиной нашего института, на Большой Бронной, жил в те годы некий Юлий Маркович Искин. Он не осчастливил мир, подобно Рудерману, победной, как эпидемия, песней, не свалился в сиротство, не приходил к нам «стрельнуть гвоздик», а поэтому мы и не подозревали о его существовании, хотя в Союзе писателей он пользовался некоторой известностью, был даже старым другом самого Александра Фадеева.
У него, Юлия Искина, на Бронной небольшая, зато отдельная двухкомнатная квартира, забитая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь Дашенька ходит в школу. Хозяйство ведет тетя Клаша, пятидесятилетняя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью.
По всей улице Горького садили липы. Разгромив «Унтер ден Линден» в Берлине, мы старательно упрятывали под липы центральную улицу своей столицы. Давно замечено — победители подражают побежденному врагу.
«Deutschland, Deutschland, uber alles!» — «Германия — превыше!..» Ха!.. В прахе и в позоре! Кто превыше всего на поверку?..
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..
Великий вождь на банкете поднял тост за здоровье русского народа:
— Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное — все враждебно. Папиросы-гвоздики «Норд» стали «Севером», французская булка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисона… Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета! Электрическую лампочку изобрел Яблочков! И самолет не братья Райт, а Можайский. И паровую машину не Уатт, а Ползунов. И уж, конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио… Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а этот предок в незапамятные времена пасся на «просторах родины чудесной», а никак не в потусторонней Индии.
Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?
«Deutschland, Deulschland uber alles!» Разбитую «Унтер ден Линден» усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново.
На улице Горького садили липы.
В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки.
Охотились и садили липы…
В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса.
Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли, и глаза его при этом становились непроницаемо тусклые, какие-то глухие.
Его выбрали в институтский партком — за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности. Выбрали даже не секретарем, а рядовым членом.
И тут-то от заседания к заседанию Вася Малов начал показывать себя. Во-первых, он любил выступать, говорил длинно, обстоятельно, тихим, бесстрастным голосом, стараясь сам не волноваться и не волновать других. Во-вторых, ему, оказывается, просто невозможно было возразить ни по существу, ни в частностях. Пробитая осколком голова Васи Малова не терпела ни малейших возражений. Он сразу же начинал волноваться, краснел и бледнел одновременно — пятнами, полосами, кричал надрывным голосом, а глаза его наливались безумным мраком. К нему сразу же бросались, успокаивали, поддакивали, извинялись — иначе мог свалиться в припадке, не дай бог, тут же умереть на заседании.
Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов.
Вася Малов выступал на каждом парткоме, невзволнованно тихим голосом он называл имена: такой-то несет в себе заразу безродности!
Ему не возражали.
Вася Малов указал уже на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя.
Каждый из нас — кто таясь, а кто афишируя, — претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали — Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.
Он писал стихи и только, стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка — оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом его стихе знакомые вещи вдруг представали какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое — неожиданно хорошим.




