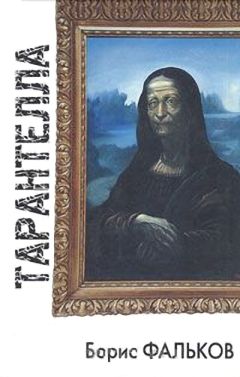Борис Фальков - Тарантелла
Вот, разъярившись достаточно, ты свирепо - но в который раз! - решаешь не уступать давлению, всему этому спланированному до мельчайших деталей позиций и движений, бесчеловечному гону. И ты не уступаешь... дорогу другому прохожему, неотличимому близнецу первого: он внезапно появляется из-за угла переулка и ты просто оказываешься у него на пути.
Он идёт тебе навстречу такой же паучьей, лёгкой и одновременно ковыляющей походкой, выставив заломленный желобком козырёк, и другой, невидимый рог. Руки - в карманах измятых штанов, так густо покрытых пылью, будто он шагает уже долго и собирается идти далеко. Он вырастает над тобой, и одновременно удаляется, поскольку выходит за пределы поля зрения. Ты заранее ощущаешь, как рог погружается в твоё чрево, но ты ни за что не уступишь на этот раз. Что ж, твоя сцена, твой выход, свирепая плясунья ты моя. Твои зрители: они уже готовы, ждут. Вон, за правой кулисой, на пороге своей цирюльни замер Фрейд. А у задника, это портал церкви, на ступенчатом своём престоле Папа. Сквозь щель в гостиничной двери конечно же подглядывает трусливый Экклезиаст. Вся знать в сборе, вся троица вполне едина в своей роли - одной на троих, все её ипостаси в шесть глаз глядят только на тебя. Полиция, пожарники, вся служба сцены - как им положено: мертвы.
Никто из них и пальцем не пошевелит, чтобы помочь тебе. Не для того они тут. Все, кто сейчас смотрит на тебя, обступает и толпится вокруг, продолжают заданную им работу: одиночить тебя. Но ведь и ты не поможешь им ничем. Им уже дана одинокая ты, и надвигающийся на тебя, катящий на тебя рок. Если они и сочувствуют, если кому и послушны - то не тебе, ему. Смотри не на них, на него: и ты, наконец, не только услышишь, но и увидишь меня. И хотя он кажется неотличимым от своих предшественников, видом и запахом он тот же, но меня-то ты не спутаешь ни с кем. Ты узнаешь меня не по виду, не по запаху - по одному лишь приближению.
Ты широко разводишь руки, чтобы перекрыть пути в обход тебя. Открываешь их из подготовительного положения на нужную позицию, словно раскрываешь объятия. В откинутой правой руке ты продолжаешь сжимать нелепый зелёненький зонтик, будто потешная конструкция поможет тебе сохранить равновесие в трудной позе, как это делают танцовщицы на проволоке. Но ведь это всё, что ты можешь проделать сама. Без меня.
Не замедляя своего надвижения, он огибает расставленные тобою силки и пренебрежительно проходит дальше, мимоходом слегка задевая плечом твои стиснувшие ручку зонтика, побелевшие от напряжения костяшки пальцев. И это всё, что мог бы сделать с тобой он сам. Не будь он - я.
Пахнув рабочим потом - я толкаю тебя и продавливаюсь сквозь тебя, чтобы тут же скрыться в расщелине другого переулка. Того, где вместо булыжника ступеньки. Но получив даже такой безобидный толчок, ты теряешь равновесие, едва не падаешь. А удерживаешься на ногах только потому, что совершаешь искусный пируэт и прижимаешься к раскалённой стене плечом: удар пришёлся в левую, больше правой припухшую грудь. Он направлен в сердце, но потряс тебя всю. Выдавленные, выбитые им из желез слёзы текут по твоим щекам, подобно молоку из лопнувшего вымени. Вот это настоящая боль, моя ты дорогая!..
Смотри, это последнее тебе предупреждение. Cкажи мне за него спасибо, родная. Скажи: честная работа, родной, всё сделано хорошо, спасибо за всё.
Так совершенны небо и земля, и всё воинство их. И сказал им Господь Бог: владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И нарек человек имена всем скотам и птицам, и всем зверям полевым.
-------------------------------------------------------------------------
ЭКЗЕРСИС III У ПАЛКИ
(эпилог, неканонические позы)
-------------------------------------------------------------------------
ШЕСТАЯ ПОЗИЦИЯ: ЭПИЛОГ
Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навёл Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал из ребра жену, и привёл её к человеку. И оба были наги, и не стыдились.
Нет, Экклезиаст пребывает там же, где она его оставляла: в своей лодке. Продлись отсутствие не час, а год - он всё будет в прежней, исходной позе, при неотделимом от неё аккомпанементе хоралов. Их темп и ритмический рисунок, собственно - никакие, подчёркивают соразмерность между музыкой и движениями. В этом случае - их отсутствием. Характерные мотивы всегда создают окраску движений, так и бесхарактерная мелодия окрашивает их отсутствие. Определённые её рисунок, метр, темп, выявляют и подчёркивают определённый рисунок движения. Но точно так же и неопределённые качества мелодии выявляют его неопределённость. Соответствие всегда повышает качество упражнения, любого, даже если оно упражнение в отсутствии качества, в неподвижном сидении за конторкой.
Ну да, а если её Страж просто успел вернуться на исходный рубеж, галопом или вскачь, но в любом случае, конечно, омерзительно виляя своими разжиревшими бёдрами? Что ж, тогда и это упражнение закончилось той же позой, с какой началось, вернуло Стража в начальную позицию. Какая разница? В любом случае придётся начинать с исходного рубежа, всем - с ноля.
Если приглядеться, вернее - прислушаться, эта исходная позиция не совсем та же, чуточку другая: когда постоялица переступила порог, padrone не усилил, а приглушил зудение магнитофона. Она механически отрeагировала на его гостеприимный жест как на приглашение, и протащилась на тот тихий зов к конторке, даже и не пытаясь решить, зачем бы такое нужно ей самой. На это просто не оставалось ресурсов, совсем другая задача занимала её целиком, следует ли ей снимать очки. Она колебалась между сторонами дилеммы, стараясь предугадать, какая посылка в конце концов перевесит. С одной стороны: в холле, конечно, слишком темно, а с другой: не стоит давать кому-нибудь возможность увидеть ничем не защищённые глаза. Она подозревала, что они не в лучшей форме после её неудачного выхода на сцену: припухли веки, потекла, предательски выявившись, краска, и всё такое... А все такие не в лучшей форме органы следует скрывать под соответствующей одеждой. К тому же, снимание очков, раздевание лица, могло выглядеть началом раздевания и всего остального. А эта идея - раздеться прямо у порога перед изумлённым хозяином - была отвергнута ещё ночью.
Пока она так тащилась, он опять рассматривал её колени, с тем же, соответствующим позе, рассеянным выражением отсутствия. Такая рассеянность несомненный внешний признак подспудного упорного педантизма. Тупости, тут же последовала поправка к найденной формуле, и она привычно решила, что сделала её сама.
После трудной вылазки наружу её внутреннее, прежде такое острое ощущение повторяемости событий притупилось: обеднело и тоже стало привычным. Отсутствие острой приправы позволяло теперь лучше распознавать собственный, отличный от других, привкус каждого из них. Эта наращивающая саму себя, как спасительное ороговение натёртого участка чувствительной кожи, привычка - счастье бедных выявила в неизменных, мёртвых повторах искажения. Так, бывает, отражается оригинал в под разными углами установленных зеркалах. А, значит, выявила пусть и обнищавшую, но жизнь. Искажения были совсем малыми, скупыми, но ведь и ощущения её стали скупей, бедней и рассеянней. Так что она сама была близка к тому, подсказанному ей извне, к тупости. Только в этом случае она предпочла назвать её спокойствием, тут и решать было нечего, слово само подвернулось ей на язык и поправок не потребовало. Да и поздно было что-либо исправлять, слово уже произнеслось вслух. Спокойно, сказала себе она, хотя и была, в сущности, именно такой: поразительно спокойной. Таков был остаток прежнего богатства.
В растущей бедности внутренних ощущений она теперь замечала то снаружи, что раньше проходило мимо неё - богатой, все эти возникающие на прежде пустынных местах пейзажа и гладких поверхностях декораций детали убогой лепнины. Будто невидимые пальцы лепили их прямо у неё на глазах: густые чёрные волосы на пальме в кадке, геометрические узоры на гранитном полу холла, подчёркнуто новую кепку на гвозде - идеально чёрную, невыгоревшую. Значит, её хозяин не врал: он редко выходит из дому, к тем. Растаявшее, промотанное богатство перестало застить ей глаза. Будто вмиг улучшилось зрение - теперь в них просто бросалось то, чего она совсем недавно не видела из-за близорукости невнимания. Будто, вступив снова в привычный и на вид неизменный холл, она одновременно вступила в совсем иную, абсолютно незнакомую, вторую половину своей жизни. И превращения, сопровождающие это вступление, стали совершаться совсем в другом темпе, внезапно, не так, как они происходили в первой половине: хорошо подготовленными, растянутыми на годы переменами. Как если бы и то и другое, холл и она сама, были теперь сделаны не из известняка и мяса, а и вправду - минимум на восемьдесят процентов из быстротекущей, безвозвратно утекающей воды. Или совсем уж из воздушных струй, из слов.