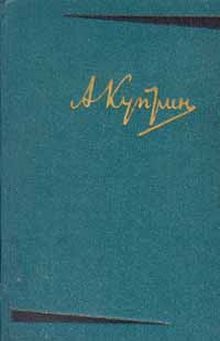Эргали Гер - Дар слова
Хотела бы она знать, что он подразумевал под этим.
Однажды, когда они болтали о музыке, Анжелка вдруг вспомнила и рассказала Сереженьке, как давным-давно, лет в пятнадцать или шестнадцать, угораздило ее отправиться в одиночное плавание на концерт "Нау" в Горбушку - очень хотелось взглянуть на настоящего живого Бутусова - и как унизительно, страшненько, бесприютно оказалось одной ходить на концерты. Оказалось, что все эти дела концерты, спектакли, кинотеатры, дискотеки и прочее - придуманы не для выродков-одиночек, а для нормальных людей, умеющих гуртоваться, кучковаться, разговаривать ором и с визгами-писками целоваться стенка на стенку. В тесном прокуренном вестибюле Горбушки тянули пронзительные сквозняки, по заляпанному жвачками полу катались банки-жестянки, народ сновал туда-сюда и тусовался как бы при деле: старушки-хиппушки в длинных юбках и клобуках, пацанки в косушках, даже девицы в шубах при кавалерах - только ей, бедолаге, негде было приткнуться, укрыться от снисходительных и насмешливых взглядов. Она казалась себе восклицательным знаком среди отточий... одиночество было полным, позорным, безысходным и вопиющим, одиночество жирным лиловым клеймом во лбу гнало ее из эпицентра праздника, обязывая скользить по периметру. Униженная, ошеломленная, она отсидела концерт с нарастающим чувством разочарования в живой музыке. Маленький Бутусов на сцене напоминал кукольную копию настоящего, знакомого по плакатам и телевизору; микрофон то фонил, то скрежетал и пощелкивал, звук царапал слух и казался шероховатым, замусоренным, как сама Горбушка, а главное - новые песни звучали зануднее старых, а старые, залюбленные до последней ноты, исполнялись по-новому.
- Самое обидное, что потом этот концерт раз пять крутили по телевизору, и с каждым разом он смотрелся все лучше и лучше, чем в жизни, - жаловалась Анжелка. - В конце концов начинаешь думать: ого, как клево, вот бы туда попасть... А на самом деле... В общем, если хорошая аппаратура, лучше дома, в наушниках.
- А любить - по телефону, - подытожил Сережка.
- Нет, - сказала она. - Нет. Нет.
- Да. Настолько привыкаешь к экстрактам, искусственным всяким вытяжкам, что реальная жизнь по контрасту кажется жидковатой...
- Это не про меня, - решительно отвергла Анжелка. - Я тебя не по телефону люблю, а по жизни, двадцать пять часов в сутки. Это ты, сурок телефонный, прячешься от меня, а мне ты нужен живьем - целиком, а не вытяжкой!..
- Целиком меня давно уже нет, Анжелка, - ответил он. - Можешь взять кусочками, но в том-то и дело, что на слух они еще как-то стыкуются, а в жизни вряд ли.
- Попробуй-ка разъяснить этот фокус, - подумав, сказала она. - Я тебя не понимаю, Сережка.
- А я, думаешь, понимаю? Я сам не понимаю про себя ни хрена, только чувствую... Такое же чувствую клеймо, как ты сказала, только не во лбу, а прямо на ладонях, на линиях судьбы... Ладно. Объяснить не смогу, а рассказать расскажу - хотя, собственно, и рассказывать особо нечего...
Они жили в чудном доме на краю соснового бора, в зоне цековских дач и пансионатов, в пяти километрах от Конаково; за окнами по будням текла, а по выходным не текла Волга (плотину на выходные перекрывали, накапливая воду для трудовой недели). В доме полно было книг, альбомов, записей Высоцкого и Окуджавы - отец с матерью окончили биофак МГУ и работали в охотничьем хозяйстве управделами ЦК: отец - директором, мама - то ли главным, то ли старшим специалистом. "Отец специализировался на отстреле, а мама наоборот". У них было много друзей в Дубне, городе физиков, они ездили туда на машине, а иногда, разнообразия ради - на моторке. Однажды в начале сентября, возвращаясь из Дубны по реке, они попали под сброс воды с Конаковской ГРЭС - Волга вздулась, пошла свищами водоворотов, лодка зарылась носом в водоворот и перевернулась. Сережке было семь лет, сестренке девять. "Хватай Сережку, велела мама отцу. - Мы продержимся. Плывите, живо!" Она не умела плавать, но цеплялась за перевернутую лодку, а Настя за маму. Отец схватил Сережку за шиворот и поплыл. Он плыл и оглядывался. "Плывите, мальчики!" - кричала мама. Доплыв до отмели, отец бросил Сережку и поплыл обратно, но не успел. Лодка была легкой, дюралевой, но сентябрьская вода оказалась легче.
- Она знала, что не продержится, - объяснял Сережка. - И отец знал. Даже я. Только Настя надеялась.
- О, Боже... - выдохнула Анжелка.
- И после этого - после того, как мы с папаней бросили наших женщин, - все пошло вкривь и вкось. На другое лето отец учил меня плавать: швырял с мостков в воду и орал "плыви!", а я ревел и захлебывался не столько от страха, сколько от стыда и обиды. Как будто я виноват, что он вытащил меня, а не Настю. А еще учил ориентироваться в лесу, зимовать у костра, потрошить дичь и все такое. Однажды отправил домой из заказника напрямки, на лыжах, а это пятнадцать километров по замерзшим болотам... В общем, ему посоветовали отдать меня в интернат, но я оттуда сбежал. И оказался в безвоздушном пространстве. Сам ездил в школу, сам возвращался, сам по дому крутился, в общем - все сам-один. Говорил в основном с деревьями, дорогой, рекой, собаками, перечитал дома все книги, альбомы, выучил наизусть всего Высоцкого - вот, собственно, мое образование... Потом, после школы, работал у отца помощником егеря, потом армия - так что до двадцати лет я вашего пола не то что за ручку не держал, но даже не видел толком - держался, в буквальном смысле, на расстоянии выстрела. Вот так.
Понарассказывал он в тот вечер с три короба: Анжелка то ахала, сопереживательно хлюпая носом, то хохотала как бешеная. Первая его фея оказалась наутро блядью, нанятой приятелем-доброхотом; другая, за которой Сережка робко приударял, в порядке заигрывания стала напрыгивать на него в банном бассейне, норовя притопить вместе с беспомощными, как слепые кутята, чувствами... Он рассказывал одну историю за другой, пытаясь, не называя словами, описать нависшее над ним проклятие, изнуряющее ощущение вины за собственную никчемность и две самые светлые жизни, принесенные в жертву ради него; жертву не только страшную, но и бессмысленную - как будто тот моментальный выбор, сделанный отцом и матерью в его пользу, навсегда лишил его главного жизненного стержня, обманув последнюю надежду матери и обессмыслив сам выбор. Подразумевалось, что после этого он не может, не должен жить простой травоядной жизнью, растительно и бездумно, то есть вполне по-людски, и он действительно не мог по-людски, но - в другом смысле. Он рассказывал грустные, нелепые, смешные истории, пытаясь передать ей свое ощущение выброшенности в никуда - ощущение человека, выброшенного из реки жизни на отмель, - Анжелка ахала, охала и цвела. На душе ее, как ни странно, занималась заря во всю ширь. Точно камень с души свалился: все оказалось серьезнее, да, но теплее и человечнее, чем можно было предположить, а главное - без грязи, вот главное. "Я тебя очень люблю, - сказала она под утро. - Ты меня из такого болота вытащил, что твоей Волге не снилось, так что теперь мы повязаны и я за тобой, как ниточка за иголочкой, - до конца дней. Я не дам тебе пропасть, вот увидишь."
- Не Анжелка, а какая-то Жанна д`Арк, - пробормотал он расстроганно и утомленно... они уже засыпали, все чаще откровенно и сладко зевая друг другу на ухо.
Из этих Сережкиных рассказов Анжелке запомнилась совершенно душещипательная история его армейского романа по телефону. Избранницу звали Шурочкой: ее мама работала в части телефонисткой и прониклась к Сережке такой симпатией, что познакомила со своей дочкой-десятиклассницей. По телефону у них случилась неземная любовь, смех и грех, девичьи слезы. Шурочка наигрывала ему вальсы Шопена, марши Мендельсона, песни Пахмутовой про нежность; Сережка рассказывал страшилки, объяснял задачки по алгебре и слова типа "петтинг", "мастурбация", "клитор", о которые она спотыкалась в специальной и комсомольской прессе. Демобилизовавшись, он полетел к ней на крыльях любви - и ахнул, увидев миниатюрное, трепетное, пухленькое всюду, где только можно и должно, создание, плод нерушимой русско-армянской дружбы: мама Шурочки была петербурженкой, а папа - местным одессийским армянином из южнорусских, двести лет живущих среди казаков армян. Папу, оказывается, Сережка знал - он служил в их полку на видной должности завскладом ГСМ, - только не знал, что он папа Шурочки. Его приняли, накормили и напоили, положили в гостиной на равном удалении от родительской спальни и девичьей; хата была уютная, теплая, вся в коврах и звенящем по ночам хрустале. В общем, после двух лет казармы он попал в рай, но рай с родителями. Три дня он держался за пухленькие запястья, встречал Шурочку после школы, водил в кино и на берег Терека; три дня кормил Шурочку пылкими взглядами, от которых она в первый день трепетала, на второй изнемогала, а на третий заметно стала раздражаться и уставать. Столько всего вкладывалось в эти пылкие взгляды, что на большее не хватало. Мало того что он робел: от сытной еды, от припухлостей Шурочки и перенапрягов с пылкими взглядами Сережка напрочь утратил дар речи, а только улыбался, хмыкал, говорил "вот", напыщенно молчал или - о ужас! - невпопад сыпал армейскими прибаутками, которыми в армии брезговал. Короче, на четвертый день они распрощались дружески, но с прохладцей. - "Похоже, ты только по телефону орел", - сказала Шурочка на прощание. - "Наверное", - ответил Сережка. Он отправился на вокзал, выправил билет до Минвод и напоследок позвонил Шурочке: до поезда оставалось часа полтора, а слоняться по заляпанному грязью Моздоку обрыдло. И все полтора часа они прощались по телефону, разговаривая взахлеб, как после долгой разлуки; под конец с Шурочкой случилась истерика, она кляла его на чем свет стоит и любила, любила только его - она три ночи ждала, стелила себе на ковре, а не на диване, ждала как мужа, как жениха, а не как робкого постояльца... Сережка дрожащим голосом извинялся, оправдываясь пылкостью, одичанием, безразмерностью чувств и роком; потом пришел поезд. Шурочка рыдала, заклиная его остаться, но Сережка, боясь рецидива, решился ехать - силы, деньги, законы гостеприимства, да и сам Моздок, приткнувшийся на краю бесконечной осточертевшей степи, - все было на исходе. Он поехал, а она побежала к переезду возле третьего караула - туда, где кончался город и начиналась голая степь: на переезде поезда сбавляли ход, потом набирали скорость. Открыв дверь тамбура, он спустился на подножку и заскользил по касательной мимо Моздока, мимо "кирзы", мимо обвалованных капонирами вышек третьего караула - на последнем капонире стояла Шурочка, увидела его и замахала рукой. Он рванулся к ней, намертво вцепившись в поручни, открыл рот для прощального крика, но ветер вбил крик обратно в глотку, а Шурочка, молча плача, рванула на груди полушубок, распахнула полы и проплыла в десяти метрах от него обнаженная совершенно, в одном полушубке и сапогах...