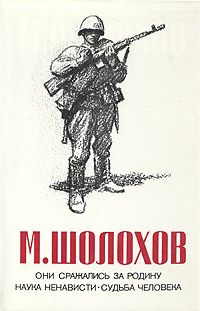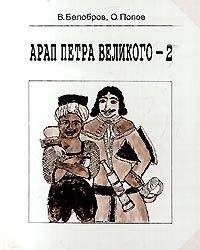Михаил Шолохов - Они сражались за Родину (Главы из романа)
По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора, все спали с усталости без задних ног, и все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображал себя в землянке, или в блиндаже, или в каком-нибудь ином укрытии. Вот ведь пропасть какая: ежели по боевой тревоге подымут, сразу понимаю, что и к чему, а по собственной нужде проснусь - непременно начинаю чудить...
На прошлой неделе, когда в Стукачевом ночевали, в печь умудрился залезть. Ведь это подумать только - в печь! Настоящий сумасшедший и то такого номера не придумал бы... Чуть не задушился там. Куда ни сунусь - нету выхода, да и шабаш! А задний ход дать - не соображаю, уперся головой в кирпич, лежу. Кругом горелым воняет... "Ну, думаю, вот она и смерть моя пришла, не иначе снарядом завалило". Был у меня такой случай, завалило нас в блиндаже в ноябре прошлого года. Ежели бы товарищи тогда вскорости не отрыли - теперь бы уж одуванчики на моих костях росли... И вот скребу ногтями кирпич в печке, дровишки раскидываю, помалу шебаршусь, а сам диким голосом окликаю: "Товарищи, дорогие! Живой кто остался? Давайте откапываться своими силами!" Никто не отзывается. Слышу только, как сердце у меня с перепугу возле самого горла бьется. Поискал руками - лопатки на поясе при мне нету. "Всем остальным ребятам, думаю, как видно, концы, а один я не откопаюсь голыми руками". Ну, тут я, признаться, заплакал... "Вот, думаю, какой неважной смертью второй раз помирать приходится, провались ты пропадом и с войной такой!" Только слышу: кто-то за ноги меня тянет. Оказался это старшина. Вытянул он меня волоком, а я его в потемках, конечно, не угадываю. Стал на ноги и обрадовался страшно! Обнимаю его, благодарю. "Спасибо, мол, великое тебе, дорогой товарищ, что от смерти спас. Давай скорее остальных ребят выручать, а то пропадут же, задохнутся!" Старшина спросонок ничего не понимает, трясет меня за плечи и шепотом потихонечку спрашивает: "Да вас сколько же в одну печь набилось и за каким чертом?" А потом, когда смекнул, в чем дело, вывел меня в сени, матом перекрестил вдоль и поперек и говорит: "Три войны сломал, всякое видывал, а таких лунатов, какие не по крышам, а по чужим печам лазят, - встречаю первый раз. Ты же видел, говорит, что хозяйка еще засветло все съестное из печи вынула и дров на затоп наложила, за каким же ты дьяволом туда лез?"
Я очухался и начал было объяснять ему про свою окопную болезнь, а он и слушать не желает, почесался немного, позевал и медленно так на своем сладком украинском языке говорит: "Брешешь, вражий сын! Завтра получишь два наряда за то, что мародерничал в печи, мирное население хотел обидеть, а еще два наряда за то, что не там ищешь, где надо. Топленое молоко и щи, какие от ужина остались, хозяйка еще с вечера в погреб снесла. Солдатской наблюдательности в тебе и на грош нету!.. "
Копытовский захохотал и, забывшись, снова хлопнул себя по голой ляжке:
- До чего же правильно решил старшина! Это же не старшина, а просто Верховный суд!
Некрасов мельком неодобрительно взглянул на него и все так же размеренно и спокойно, будто рассказывая о ком-то постороннем, продолжал:
- И какие средства я ни пробовал, чтобы по ночам не просыпаться, ничего не помогает! Воды по суткам в рот не брал, горячей пищи не потреблял - один бес! Перед рассветом вскакиваю, как по команде "Смирно", - и тогда пошел блудить. И вот хотя бы нынешней ночью... Проснулся перед зарей, дождь идет, ноги мокрые. Сквозь сон, сквозь эту вредную окопную болезнь думаю: "Натекло в землянку. Надо бы с вечера отводы прорыть для воды". Встал, пошарил руками - дерево. А того невдомек, что мы с Май-Бородой под тополем спали... Щупаю дерево и про себя мечтаю, что это - стенка, сам ступеньки ищу, хочу наверх лезть. По нечаянности, когда вокруг тополя ходил, наступил этой Май-Бороде на голову... Эх и шуму же он наделал - страсть! Вскочил, откинул плащ-палатку, плюется, а сам ругается - муха не пролетит! "Ты, говорит, псих такой и сякой, ежели окончательно свихнулся и по ночам на деревья лазишь, как самая последняя обезьяна, так по крайней мере не топчись по живым людям, не ходи по головам, а то вот возьму винтовку да штыком тебя на дерево подсажу! Так и засохнешь на ветке, как червивое яблоко!"
А того ему, идиотскому дураку, непонятно, что наступил я на него не в своем уме, а от этой проклятой окопной болезни. Ругался он, пока не охрип от злости. И я бы ему до конца смолчал, потому что виноват я, сам понимаю. Но он собрал свои пожитки, завернул их в плащ-палатку и, перед тем как идти свежего места в лесу искать, на прощание мне и говорит: "Вот какая она, судьба-сука: хороших ребят убивают, а ты, Некрасов, все еще живой..." Ну тут я, конечно, не мог стерпеть и говорю ему: "Иди, пожалуйста, не воняй тут! Жалко, что одной ногой на твою дурацкую башку наступил, надо бы обеими, да с разбегу..." Он ко мне - с кулаками. А парень он здоровый, и силища при нем бычиная. Я автомат схватил, рубежа на два быстренько отступил и кричу ему издалека: "Не подходи близко, а то я тебя очередью так и смою с лица земли! Я из тебя сразу Январь-Бороду сделаю!" За малым до рукопашной у нас не дошло...
- Слыхал я ночью, как вы любезничали, - сказал Лопахин, - только к чему ты все это ведешь, в толк не возьму.
- Все к тому же - отдых мне требуется.
- А другим как же?
- Про других не знаю. Может, я не такой железный, как другие, - уныло проговорил Некрасов.
Он сидел, широко расставив ноги в белесых, ошарпанных о степной бурьян сапогах, и все так же чертил тоненькой веточкой на песке незамысловатые узоры, не поднимал опущенной головы.
Где-то левее, за лесом, в безоблачной синеве, казавшейся отсюда, с земли, густой и осязаемо плотной, шел скоротечный воздушный бой. Никто из сидевших на поляне не видел самолетов, только слышно было, как скрещивались там, вверху, по-особому звучные, короткие и длинные пулеметные очереди, перемежаемые глухими и частыми ударами пушек.
Из общего разноголосого и смешанного воя моторов на несколько секунд выделился голос одного истребителя: вначале пронзительный и тонкий, он, словно бы утолщаясь, перешел в низкий, басовый и гневный рев, а затем внезапно смолк. Слышались лишь далекие, неровные, стреляющие звуки выхлопов да вибрирующее тугое потрескивание, как будто вдали рвали на части полотно.
Слева в небе неожиданно возникла косая, удлиняющаяся черная полоска дыма и впереди нее - стремительно и неотвратимо летящая к земле, тускло поблескивающая на солнце фигурка самолета. Спустя немного на той стороне Дона послышался короткий, глухо хрустнувший удар...
Копытовский вдруг заметно побледнел, сказал шепотом:
- Один готов... Мама родная, хоть бы не наш! У меня и под ложечкой сосет и во рту становится солоно, когда наш вот так, на виду, падает...
Он помолчал немного и, когда первая острота впечатления несколько притупилась, подозрительно скосился на Некрасова и уже иным, деловитым и встревоженным голосом спросил:
- Слушай сюда, а она, эта твоя окопная болезнь, не того... не заразная она? А то возле тебя так с проста ума посидишь, а потом, может, тоже начнешь лазить по ночам куда не следует?
Некрасов поморщился, сказал презрительно и желчно:
- Дурак!
- Интересно, почему же это я дурак? - несказанно удивился Копытовский.
- Да потому, что при твоем здоровье к тебе даже сибирская язва не пристанет, не то что какая-нибудь умственная болезнь.
Очевидно польщенный, Копытовский молодецки выпятил массивную грудь, горделиво сказал:
- Здоровье мое подходящее, это ты правду говоришь.
- Вот вам, какие молодые и при здоровье, и можно воевать без роздыху, а мне невозможно, - грустно сказал Некрасов. - Года мои не те, да и дома желательно бы побывать... У меня ведь четверо детишек, и вот, понимаешь, год их не видел и позабыл, какие они из себя... Позабыл то есть, какие они обличьем... Глаза ихние смутно так представляю, а все остальное - как сквозь туман... Иной раз ночью, когда боя нет, до того мучаюсь, хочу ясно их вспомнить, - нет, не получается! Даже потом меня прошибет, а все равно не могу их точно вообразить, да и шабаш! Главное, старшенькую, Машутку, и ту толком не вспомню, а ведь ей пятнадцатый годок... Смышленая такая, первой отличницей в школе училась...
Некрасов говорил все глуше, невнятнее. Последние слова он произнес с легкой дрожью в хриплом голосе - и умолк, сломал прутик, который все время вертел в руках, и вдруг поднял на Лопахина влажно заблестевшие глаза и сквозь слезы - скупые мужские слезы - неловко улыбнулся:
- Про жену я уже не говорю... Это дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь... А только, признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее под мышками пахнет...
Бледный, едва владеющий собой Лопахин смотрел на Некрасова помутневшими от гнева глазами, молча слушал, а потом неожиданно тихим, придушенным голосом спросил:
- Ты откуда родом, Некрасов? Курский? И так же тихо, слегка покашливая, Некрасов ответил:
- Был курский. Из-под Лебедяни.