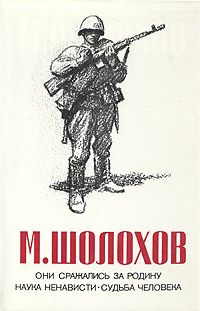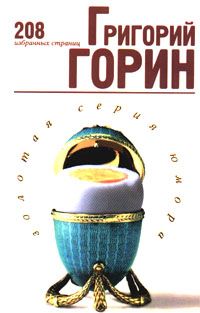Михаил Шолохов - Они сражались за Родину (сборник)

Обзор книги Михаил Шолохов - Они сражались за Родину (сборник)
Михаил Шолохов
Они сражались за Родину (сборник)
Наука ненависти
На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С., здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты, в зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах.
Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевито-клейких листках.
Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной-красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением:
– Как же ты тут уцелела, милая?..
Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб.
На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымянной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья…
* * *Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном.
Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье.
Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади – конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца, летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке.
Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги.
Шагавший впереди немец – пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, – поравнялся с блиндажом, кинул в нашу сторону исподлобный, волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким, лающим голосом:
– Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрей, говорят тебе!..
Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, вполголоса сказал:
– Ничего не поделаешь – нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там и после этого живых гитлеровцев не может видеть, именно живых! На мертвых смотрит ничего, я бы сказал – даже с удовольствием, а вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет. – Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот: – Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку: силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает… Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, – это страшно!
* * *Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издалека доносился орудийный выстрел, спустя несколько секунд над нашими головами, высоко в звездном небе, слышался железный клекот снаряда, воющий звук нарастал и удалялся, а затем где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя и громово звучал разрыв.
В промежутках между выстрелами, когда в лесу устанавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки.
Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить.
– До войны работал я механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван девятого июля прошлого года. Семья у меня – жена, двое ребят, отец-инвалид. Ну, на проводах, как полагается, жена и поплакала и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится – жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не беспокойся!»
Отец, тот, конечно, покрепче, но без наказа и тут не обошлось: «Смотри, – говорит, – Виктор, фамилия Герасимовых – это не простая фамилия. Ты – потомственный рабочий; прадед твой еще у Строганова работал; наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то – твоя, она тебя командиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко».
«Будет сделано, отец».
По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек… Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу агитировали, то этот вовсе спуску не даст, двинет какую-нибудь речугу на полчаса, обязательно двинет! А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов, – говорит мой секретарь, – перед дорогой посидим минутку по старому обычаю».
Посидели мы с ним немного, помолчали, потом он встал, и вижу – очки у него будто бы отпотели… Вот, думаю, чудеса какие нынче происходят! А секретарь и говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким, лопоухим, когда ты пионерский галстук носил, помню затем комсомольцем, знаю и как коммуниста на протяжении десяти лет. Иди, бей гадов беспощадно! Парторганизация на тебя надеется». Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и, черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше…
И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный.
А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене не весело; ну, и моя жена, конечно, тоже растерялась немного от горя, все хотела что-то важное сказать, а в голове у нее сквозняк получился, все мысли вылетели. И вот уже поезд тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит:
«Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте». – «Что ты, – говорю ей, – Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться, и веселее стало от милых и глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев. Ну, думаю, тронули нас, вероломные соседи, – теперь держитесь! Вколем мы вам по первое число!
Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь к вспыхнувшей на переднем крае пулеметной перестрелке, потом, когда стрельба прекратилась, так же внезапно, как и началась, продолжал:
– До войны на завод к нам поступали машины из Германии. При сборке, бывало, раз по пять ощупаю каждую деталь, осмотрю ее со всех сторон. Ничего не скажешь – умные руки эти машины делали. Книги немецких писателей читал и любил и как-то привык с уважением относиться к немецкому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было в конце концов их дело. Потом началась война в Западной Европе…
И вот еду я на фронт и думаю: техника у немцев сильная, армия – тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, да об этом после…