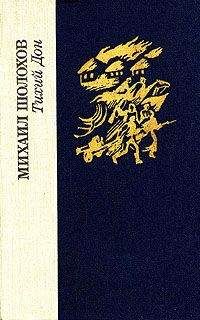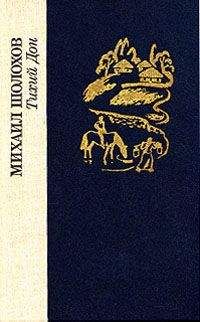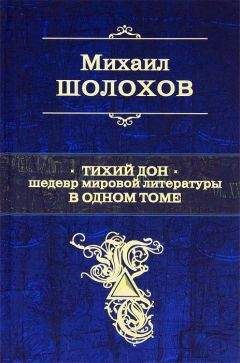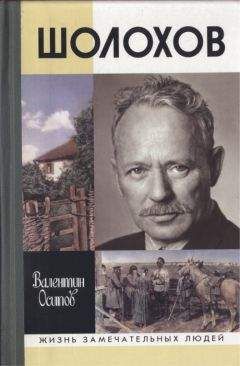Михаил Шолохов - Тихий Дон
В Вешенской началась эвакуация окружных учреждений и интендантских складов. Григорий в управлении окружного атамана справился о положении на фронте. Молоденький хорунжий, исполнявший должность адъютанта, сказал ему:
– Красные около станицы Алексеевской. Нам неизвестно, какие части будут идти через Вешенскую и будут ли идти. Вы сами видите – никто ничего не знает, все спешат удирать… Я бы вам посоветовал сейчас не разыскивать вашу часть, а ехать в Миллерово, там вы скорее узнаете о ее местопребывании. Во всяком случае, ваш полк будет проходить по линии железной дороги. Будет ли противник задержан у Дона? Ну, не думаю. Вешенскую сдадут без боя, это наверняка.
Поздно ночью Григорий вернулся домой. Готовя ужин, Ильинична сказала:
– Прохор твой заявился. Час спустя, как ты уехал, приходил и сулился зайти ишо, да вот что-то нету его.
Обрадованный Григорий наскоро повечерял, пошел к Прохору. Тот встретил его, невесело улыбаясь, сказал:
– А я уж думал, что ты прямо из Вешек зацвел в отступление.
– Откуда тебя черти принесли? – спросил Григорий, смеясь и хлопая верного ординарца по плечу.
– Ясное дело – с фронта.
– Удрал?
– Что ты, господь с тобой! Такой лихой вояка, да чтобы убегал? Приехал по закону, не схотел без тебя в теплые края правиться. Вместе грешили, вместе надо и на Страшный суд ехать. Дела-то наши – табак, знаешь?
– Знаю. Ты расскажи, как это тебя из части отпустили?
– Это – песня длинная, посля расскажу, – уклончиво ответил Прохор и помрачнел еще больше.
– Полк где?
– А чума его знает, где он зараз.
– Да ты когда же оттуда?
– Недели две назад.
– А где же ты был это время?
– Вот какой ты, ей-богу… – недовольно сказал Прохор и покосился на жену. – Где, да как, да чего… Где был – там уж меня нету. Сказал – расскажу, значит, расскажу. Эй, баба! Дымка есть у тебя? Надо бы при встрече с командиром глонуть по маленькой. Есть, что ли? Нету? Ну, сбегай, добудь, да чтобы на одной ноге обернулась! Отвыкла без мужа от военной дисциплины! Разболталась!
– И чего это ты расходился? – улыбаясь, спросила Прохорова жена. – Ты на меня не дюже шуми, хозяин ты тут небольшой, в году два дня дома бываешь.
– Все на меня шумят, а я на кого же зашумлю, окромя тебя? Погоди, дослужусь до генеральского чина, тогда на других буду пошумливать, а пока терпи да поскорее надевай свою амуницию и беги!
После того как жена оделась и ушла, Прохор укоризненно поглядел на Григория, заговорил:
– Понятия у тебя, Пантелевич, никакого нету… Не могу же я тебе при бабе всего рассказывать, а ты нажимаешь, как да что. Ну как, поправился после тифу?
– Я-то поправился, рассказывай про себя. Что-то ты, вражий сын, скрытничаешь… Выкладывай: чего напутал? Как убег?
– Тут хуже, чем убег… Посля того как отвез тебя хворого, возвертаюсь в часть. Направляют меня в сотню, в третий взвод. А я же страшный охотник воевать! Два раза сходил в атаку, а потом думаю: «Тут мне и копыта откинуть прийдется! Надо искать какую-нибудь дыру, а то пропадешь ты, Проша, как пить дать!» А тут, как на грех, такие бои завязались, так нас жмут, что и воздохнуть не дают! Что ни прорыв – нас туда пихают; где неустойка выходит – опять же наш полк туда прут. За неделю в сотне одиннадцать казаков будто корова языком слизнула! Ну я и заскучал, даже вша на мне появилась от тоски. – Прохор закурил, протянул Григорию кисет, не спеша продолжал: – И вот припало мне возле самых Лисок в разъезде быть. Поехало нас трое. Едем по бугру рыском, во все стороны поглядываем, смотрим – из ярка вылазит красный и руки кверху держит. Подскакиваем к нему, а он кричит: «Станичники! Я – свой! Не рубите меня, я перехожу на вашу сторону!» И черт меня попутал: с чего-то зло меня взяло, подскочил я к нему и говорю: «А ты, говорю, сукин сын, ежли взялся воевать, так сдаваться не должон! Подлюка ты, говорю, этакая. Не видишь, что ли, что мы и так насилу держимся? А ты сдаешься, укрепление нам делаешь?!» Да с тем ножнами его с седла и потянул вдоль спины. И другие казаки, какие были со мной, тоже ему втолковывают: «Разве это резон так воевать, крутиться, вертеться на все стороны? Взялись бы дружнее – вот бы и войне концы!» А черт его знал, что он, этот перебежчик, офицер? А он им в аккурат и оказался! Как я его вгорячах вдарил ножнами, он побелел с лица и тихо так говорит: «Я – офицер, и вы не смейте меня бить! Я сам в старое время в гусарах служил, а к красным попал по набилизации, и вы меня доставьте к вашему командиру, там я ему все расскажу». Мы говорим: «Давай твой документ». А он гордо так отвечает: «Я с вами и говорить не желаю, ведите меня к вашему командиру!»
– Так чего ж ты об этом при жене не схотел гутарить? – удивленно прервал Григорий.
– До этого ишо не дошло, об чем я при ней не мог рассказывать, и ты меня, пожалуйста, не перебивай. Решили мы его доставить в сотню, а зря… Было бы нам его там же убить, и делу конец. Но мы его пригнали, как и полагается, а через день глядим – назначают нам его командиром сотни. Это как? Вот тут и началось! Вызывает он меня спустя время спрашивает: «Так-то ты сражаешься за единую неделимую Россию, сукин сын? Ты что мне говорил, когда меня в плен забирал, помнишь?» Я – туда, я – сюда, не дает он мне никакой пощады – и как вспомнит, что я его ножнами потянул, так аж весь затрясется! «Ты знаешь, говорит, что я – ротмистр гусарского полка и дворянин, а ты, хам, смог меня бить?» Вызывает раз, вызывает два, и нету мне от него никакой милости. Велит взводному без очереди меня в заставы и караулы посылать, наряды на меня сыплются, как горох из ведра, ну, словом, съедает меня, стерва, поедом! И такую же гонку гонит на остальных двоих, какие вместе со мной в разъезде были, когда его в плен забирали. Ребяты терпели-терпели, а потом отзывают как-то меня и говорят: «Давайте его убьем, иначе он не даст нам жизни!» Подумал я и решил рассказать обо всем командиру полка, а убивать не дозволила совесть. При том моменте, когда забирали его в плен, можно было бы кокнуть, а уж посля как-то рука у меня не подымалась… Жена курицу режет – и то я глаза зажмуряю, а тут человека надо убить…
– Убили-таки? – снова прервал Григорий.
– Погоди трошки, все узнаешь. Ну, рассказал я командиру полка, достиг до него, а он засмеялся и говорит: «Нечего тебе, Зыков, обижаться, раз ты его сам бил, и дисциплину он правильно устанавливает. Он хороший и знающий офицер». С тем я и ушел от него, а сам думаю: «Повесь ты этого хорошего офицера себе на гайтан заместо креста, а я с ним в одной сотне служить не согласный!» Попросил перевесть меня в другую сотню – тоже ничего не получилось, не перевели. Тут я и надумал из части смыться. А как смоешься? Отодвинули нас в ближний тыл на недельный отдых, и тут меня сызнова черт попугал… Думаю: не иначе надо мне раздобыться каким-нибудь завалященьким трипперишком, тогда попаду в околодок, а там и отступление подойдет, дело на это запохаживалось. И, чего сроду со мной не было, – начал я за бабами бегать, приглядываться, какая с виду ненадежней. А разве ее угадаешь? На лбу у нее не написано, что она больная, вот тут и подумай! – Прохор ожесточенно сплюнул, прислушался – не идет ли жена.
Григорий прикрыл ладонью рот, чтобы спрятать улыбку, – блестя сузившимися от смеха глазами, спросил:
– Добыл?
Прохор посмотрел на него слезящимися глазами. Взгляд их был грустен и спокоен, как у старой, доживающей век собаки. После недолгого молчания он сказал:
– А ты думаешь, легко его было добыть? Когда не надо – его ветром надует, а тут, как пропасть, не найду, да и все, хучь криком кричи!
Полуотвернувшись, Григорий беззвучно смеялся, потом отнял от лица ладонь, прерывающимся голосом спросил:
– Не томи, ради Христа! Нашел или нет?
– Конечно, тебе – смех… – обиженно проговорил Прохор. – Дурачье дело над чужой бедой смеяться, я так понимаю.
– Да я и не смеюсь… Дальше-то что?
– А дальше начал я за хозяйской дочерью притоптывать. Девка лет сорока, может – чуть помоложе. Из лица вся на угрях, и видимость, ну одним словом – не дай и не приведи! Подсказали соседи, что она недавно к фершалу учащивала. «Уж у этой, думаю, непременно разживусь!» И вот я вокруг нее, чисто молодой кочет, хожу, зоб надуваю и всякие ей слова… И откуда что у меня бралось, сам не пойму! – Прохор виновато улыбнулся и даже как будто слегка повеселел от воспоминаний. – И жениться обещал, и всякую другую пакость говорил… И так-таки достиг ее, улестил, и доходит дело близко до греха, а она тут как вдарится в слезы! Я так, я сяк, спрашиваю: «Может, ты больная, так это, мол, ничего, даже ишо лучше». А сам боюсь: дело ночное, как раз ишо кто-нибудь припрется в мякинник на этот наш шум. «Не кричи, говорю, заради Христа! И ежели ты больная – не боись, я из моей к тебе любви на все согласный!» А она и говорит: «Милый мой Прошенька! Не больная я ни чуточку. Я – честная девка, боюся – через это и кричу». Не поверишь, Григорий Пантелевич, как она мне это сказала – так по мне холодный пот и посыпался! «Господи Исусе, думаю, вот это я нарвался! Ишо чего недоставало!..» Не своим голосом я у ней спрашиваю: «А чего ж ты, проклятая, к фершалу бегала? К чему ты людей в обман вводила?» – «Бегала я, говорит, к нему – притирку для чистоты лица брала». Схватился я тут за голову и говорю ей: «Вставай и уходи от меня зараз же, будь ты проклята, анчихрист страшный! Не нужна ты мне честная, и не буду я на тебе жениться!» – Прохор сплюнул с еще большим ожесточением, неохотно продолжал: – Так и пропали мои труды задаром. Пришел в хату, забрал свои манатки и перешел на другую квартиру в эту же ночь. Потом уж ребяты подсказали, и я от одной вдовы получил, чего мне требовалось. Только уж тут я действовал напрямки, спросил: «Больна?» – «Немножко, говорит, есть». – «Ну и мне его не пуд надо». Заплатил ей за выручку двадцатку-керенку, а на другой день покрасовался на свою достижению и зафитилил в околодок, а оттуда прямо домой.