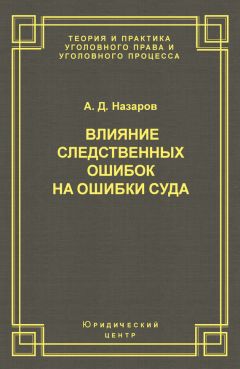Андрей Назаров - Песочный дом
Авдейка в это время сидел у дяди Коли-электрика и выяснял, чему нужно учиться теперь, когда он умеет читать и писать.
- Дальше в школе учиться будешь, - ответил дядя Коля. - Спряжения всякие изучать.
- Спряжения - это какие?
- Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, они идут, пока врут. Вот такие. Понял?
- Не понял, - признался Авдейка. - Но учить их мне не нравится.
Дядя Коля пытался возразить, но тут вошла мама-Машенька. Не поздоровавшись, она устало опустилась на диван. Губы дяди Коли сложились в треугольник.
- Чайничек! - воскликнул он.
Авдейка заметил, что мама вошла не постучавшись, как к себе. Он насупился, подошел к окну и заметил мужчину в кожанке, широкими шагами пересекающего двор.
- Мама, Машенька-мама, летчик Сидрови идет! - закричал он, узнав бронзового дядю.
Машенька подошла к Авдейке и стала рядом.
- Герой. И жив, - резко произнесла она что-то мучительно знакомое Авдейке.
Дядя Коля замер в объятии с пузатым чайничком.
- Понимаете, Машенька-мама! Герой-то нынче тот, кто жив, коща все мрут. Жив - вот в чем фокус, - произнес он победоносным треугольником рта.
Авдейка вспомнил, что рассказал о его папе кругленький человек, и, полоснув мать неистовым взглядом, выбежал, по пути толкнув дядю Колю с чайничком.
- Что это с ним? - спросил дядя Коля.
Машенька потерянно отвернулась и посмотрела вслед размашистому человеку. "Сидрови! - думала она, презрительно топорща губу. - Сидоров, так, кажется, в доинтернациональном подъездном прошлом, когда он мечтал соединиться не с международным пролетариатом, а со мной и тупо топтался у батареи, мусоля свои огромные и грязные руки. А теперь он жив, он герой, а мой избранник придавлен балкой. А сын... мой сын..."
Машенька сорвалась с места и молча пошла к себе. Дядя, Коля-электрик задумчиво провожал взглядом торопливые ноги в шароварах и разношенных туфлях. Эти шаровары не давали ему покоя. Он помнил ее ножки в прозрачных чулочках на остреньких каблучках, звук которых вонзался в него серебряными иголками. Тоща они волшебными рыбками плескались в коридорной мгле, и он часами следил за ними в дверную щель, накаляясь и пофыркивая.
"Как это она - герой и жив? Молодцом Машенька, понимает, - одобрил дядя Коля. - Глядишь, и шаровары эти скоро выбросим. Только бы комиссар краснорожий не встрял. Не нравится он мне. Горлопан, жизни нашей не знает. Ничего. Чайком да лаской, чайком да лаской - он и побоку. А там..."
За Машенькой громко ударила дверь, и дядя Коля-электрик выпустил изо рта струю воздуха.
Авдейки не было. Поток света просеивался сквозь выцветшие сборки ширмы, отбрасывая на стену мгновенный очерк неподвижной старческой головы. Машенька рванулась к матери, но, сделав неловкий шаг, сбилась с привычного пути утешения и замерла посреди комнаты. Она почувствовала себя вытолкнутой на пустую сцену, и слова, исповедально рвущиеся из груди, застряли в горле. Машенька опустилась на кровать, зажав грудь подушкой.
"Что со мной? Разве я могла прежде подумать такое? Он хороший, честный парень, этот Сидрови. Кажется, его Лешей зовут. А я? Разве такой я была?" думала Машенька, вороша обрывки воспоминаний, крошившиеся, как ветхий рисунок.
# # #
Рисунок... рисунок... Ах да, рисунок был домом, изображенным ею в три года от роду. Синий дом с разбросанными, как взрывом, по пространству листа окнами, крышей и трубой с дымом. Долгие годы он висел на стене детства, а за ним были янтарные доски, солнце, калитка, открывавшаяся с ходу колесом велосипеда, следы от купальника, подложные плечи, танго "Брызги шампанского", сессия, споры об авиации, заглавная роль в студенческом спектакле, стильные парни из Осоавиахима в кожаных куртках и скрипящие половицы возвращения. Жизнь укладывалась в рамку высохшего до хруста рисунка, охваченного миром проклинающих газет, процессов, ночных арестов, институтских собраний и бесследно исчезающих знакомых. И война, сдувшая хрупкую преграду, затемнение, воздушная тревога, дача в Малаховке, разнесенная взрывной волной, как дом по пророчески-синему рисунку, "Братья и сестры..." под стук державных зубов о стакан, привокзальные скверы, где обезображенные горем женщины стенали и отдавались в пыльной зелени на глазах прохожих, а мужчины угрюмо отдирали от ватников их руки, песочная бомба за стеной, бегство шестнадцатого октября, трамвайный парк, выбитые из клетей стекла, метель, продувающая огромный свод, оборудование, конвейер, гранаты, смена, похоронка, смена...
Но во всем, что теснилось в памяти, не было места ей самой. Все совершалось независимо от ее воли, не требуя усилия выбора - и Машенька не ощущала себя в живых.
Это было так неожиданно, что она поднялась, обтерла лицо и невольно потянулась к зеркалу. Створки трельяжа, анфиладно углубляясь друг в друга, отразили изнуренные женские лица, молчаливо и желто глядевшие на Машеньку. "Какой выбор, о чем это я? - подумала она. - Что иное можно выбрать, как не то, что дала жизнь? Мать? Дмитрия? Авдейку? Родину? Чтобы любить другое, надо и быть не собой. А я - это я. Вот и нашлась. - Из сонной глубины ей откликнулись печальные улыбки. - Нашлась - и ладно, и забыть пора. Забыть, совсем забыть о себе, как сама жизнь обо мне забыла, чтобы сохранить тех, кого любишь. Так?.. - и бесчисленные женщины утвердительно кивнули. - Ведь и Дмитрий забыл. Уже два года, как он погиб, а боли такой еще не было. Это все кругленький, он меня так подкосил своим рассказом. Зажмуришься - будто рядом Дмитрий, в дыхание от меня. Все так же уязвим и безоглядно доверчив к миру, от которого я его ограждала собой. Только не проживешь зажмурившись. А раскрыть глаза - страшно - нет его, и не будет. Но Авдейку он мне оставил". Машенька вспомнила страшный взгляд сына и похолодела. "Откуда в нем такое? Во мне этого нет, и в Дмитрии не было. Уж не от деда ли его бешеного? Чужой он человек, страшный. Это в какую же голову придет - сына поносить за то, что погиб? Дураком! И как язык повернулся? Сам дурак, что власть устанавливал, которая его сына с преступниками на гибель послала. А он добровольцем ушел, по доброй воле, по доброму сердцу. И не надо мне другой славы. Я его ребенком любила, он им и остался до конца.
Этот Василий Савельевич привык людей стрелять, вот и всех в убийцы кроит. Заслонить надо Авдейку от деда, да только рук на него не хватает. На Авдейку и маму, - уточнила Машенька. - Спасибо, Николай им занимается. И тепленький, и липкий, и жулик - а грамоте учит. Пусть. Прежде он и заговорить не смел, а теперь на тебе - чаем поит. Да я отпихнусь, лень только. Смена еще ничего, смена - в силу. А вот белье до ночи стирать... И белье ничего, - прервала она себя. - Белье - это врачи, и американские лекарства, и витамины. Белье - это маме и думать нечего. - Тут что-то сдвинулось в отраженных лицах. Машенька всмотрелась и заметила, как сузились и отвердели рты - синие рты на желтых лицах. - Рассиделась я что-то, - обратилась она к ним, как к собеседницам. Пересилить надо, подняться, в цех скоро. Там хорошо. Там дело, там я как шестеренка в часах подогнана и уставать некогда. Вот после смены выходить страшно, за что браться, не знаешь. Тут Авдейка, а ты - мимо, за бельем. И в бак его, в бак. И не садиться, ни за что - заснешь, а вода газ зальет. В девятом классе спорили все - можно ли ребеночка задушить, когда спать хочешь, а он не дает - как у Чехова. Можно. Душишь его, душишь - а из него вода. Вода, вода. Льется. И, если попросить хорошенько, можно договориться - белье в ванной оставить, а самой вместе с водой ускользнуть- капелькой. И по трубам. И в реку. Там бабы пусть себе белье полощут - а ты мимо плыви. Если и выпьет кто - не беда, ты ведь уже не одна капелька - вон сколько - и еще, и еще..."
# # #
Голова Машеньки падала на руки, когда бледные детские лица прянули из зеркал.
- Авдейка! - спохватилась Машенька.
- Я есть хочу, - тихо ответил Авдейка.
После рассказа кругленького о том, что папа его не убил ни одного фашиста, Авдейка все время чувствовал голод. Что-то внутри снедало его, и он старался заполнить себя чем мог, совсем как Болонка. Еще он хотел есть потому, что каждое утро поднимал с дедом гири и стал очень сильный. Дед готовился к медицинской комиссии и достал две пятикилограммовые гири. Он перестал пить водку и каждое утро делал зарядку, отворачивая к окну страшную грудь с красной впадиной, от которой расходились белые жгуты шрамов.
В день комиссии дед встал очень рано, побрился и вернулся в комнату, прикрываясь клочком полотенца.
- Не найдется ли пудры, невестка? - спросил дед. - Видишь, какое дело будто к венцу обряжаюсь.
- Пудра! - Машенька печально фыркнула. - Нашли что спросить! Я не только про пудру, про то, что женщина, забыла.
Авдейка пошел на кухню и вернулся с чашкой муки. Дед обрадовался, насыпал муку на грудь и стал замазывать шрамы. Потом он попытался втиснуться в Машенькино зеркало, но кряхтя отступил и повернулся к Авдейке.
- Посмотри, - попросил дед.
Авдейка сунул палец в муку, закрасил, где не хватало, и дунул. Мука осыпалась.