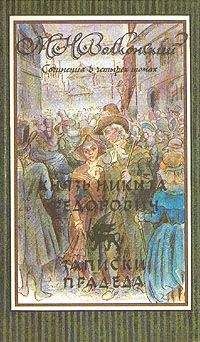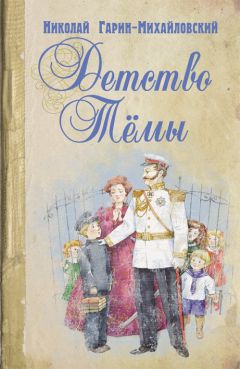Николай Гарин-Михайловский - Детство Тёмы (Семейная хроника - 1)
- Ну? - встретила его мать у калитки.
- Выдержал.
- Слава богу, - и мать медленно перекрестилась. - Перекрестись и ты, Тёма.
Но Тёме показалось вдруг обидным креститься: за что? он столько уже крестился и всегда, пока не стал учиться, резался.
- Я не буду креститься, - буркнул обиженный Тёма.
- Тёма, ты серьезно хочешь вогнать меня в могилу? - спросила его холодно мать.
Тёма молча снял шапку и перекрестился.
- Ах, какой глупый мальчик! Если ты и занимался и благодаря этому и своим способностям выдержал, так кто же тебе все дал? Стыдно! Глупый мальчик.
Но уж эта нотация была сделана таким ласкающим голосом, что Тёма, как ни желал изобразить из себя обиженного, не удержался и распустил губы в довольную, глупую улыбку.
"Да, уж такой возраст!" - подумала мать и, ласково притянув Тёму, поцеловала его в голову. Мальчик почувствовал себя тепло и хорошо и, поймав руку матери, горячо ее поцеловал.
- Ну, зайди к папе и обрадуй его... ласково, как ты умеешь, когда захочешь.
Окрыленный, Тёма вошел в кабинет и в один залп проговорил:
- Милый папа, я перешел в третий класс.
- Умница, - ответил отец и поцеловал сына в лоб.
Тёма, тоже с чувством, поцеловал у него руку и с облегченным сердцем направился в столовую.
Он с наслаждением увидел чисто сервированный стол, самовар, свой собственный сливочник, большую двойную просфору - его любимое лакомство к чаю. Мать налила сама в граненый стакан прозрачного, немного крепкого, как он любил, горячего чаю. Он влил в стакан весь сливочник, разломил просфору и с наслаждением откусил какой только мог большой кусок.
Зина, потягиваясь и улыбаясь, вышла из маленькой комнаты.
- Ну? - спросила она.
Но Тёма не удостоил ее ответом.
- Выдержал, выдержал, - проговорила весело мать.
Напившись чаю, Тёма хотя и нехотя, но передал все, не пропустив и слов директора.
Мать с наслаждением слушала сына, облокотившись на стол.
В эту минуту, если б кто захотел написать характерное выражение человека, живущего чужой жизнью, - лицо Аглаиды Васильевны было бы высокоблагородной моделью. Да, она уж не жила своей жизнью, и всё и вся ее заключалось в них, в этих подчас и неблагодарных, подчас и ленивых, но всегда милых и дорогих сердцу детях. Да и кто же, кроме нее, пожалеет их? Кому нужен испошленный мальчишка и в ком его глупая, самодовольная улыбка вызовет не раздражение, а желание именно в такой невыгодный для него момент пожалеть и приласкать его?
- Добрый человек директор, - задумчиво произнесла Аглаида Васильевна, прислушиваясь к словам сына.
Тёма кончил и без мысли задумался.
"Хорошо, - пронеслось в его голове. - А что было неделю тому назад?!"
Тёма вздрогнул: неужели это был он?! Нет, не он! Вот теперь это он.
И Тёма ласково, любящими глазами смотрел на мать.
XII
ОТЕЦ
Сильный организм Николая Семеновича Карташева начал изменять ему. Ничего как будто не переменилось: та же прямая фигура, то же николаевское лицо с усами и маленькими, узенькими бакенбардами, тот же пробор сбоку, с прической волос к вискам, - но под этой сохранившейся оболочкой чувствовалось, что это как-то уже не тот человек. Он стал мягче, ласковее и чаще искал общества своей семьи.
Тёму особенно трогала перемена в отце, потому что с ним отец был всегда строже и суровее, чем с другими.
Но при всем добром желании с обеих сторон сближение отца с сыном очень туго подвигалось вперед.
- Ну, что твое море? - спросил Тёму как-то отец во время вечернего чая, за которым, кроме семьи, скромно и конфузливо сидел учитель музыки - молодой худосочный господин.
- Да, что море? - огорченно заметала мать, - гребут до изнеможения, вчера восемь часов не вставали с весел... Ездят в бурю и кончат тем, что утонут в своем море.
- Я в этом отношении фаталист, - сказал отец, исчезая в клубах дыма. Двум смертям не бывать, а одной - как ни вертись, все равно не миновать. За делом-то, пожалуй, и приятнее умереть, чем так сидеть да дожидаться смерти.
Глаза Тёмы сверкнули на отца.
- Ну, пожалуйста, - обратилась мать к сыну. - Сначала дело свое сделай, как папа, курс кончи, обзаведись семьей.
- Я никогда не женюсь, - ответил Тёма. - Моряку нельзя жениться, у моряка жена - море.
Он с удовольствием потянулся.
- Данилов тоже, конечно, не женится? - спросила Зина.
- Конечно, не женится, мы с ним будем всегда вместе, на одном корабле.
- Вместе и командовать будете, конечно? - пошутил отец.
Отец был в духе.
Тёма, пригнувшись к столу так, что только торчала его голова, ответил весело, сконфуженно улыбаясь:
- Ну-у, командовать...
- Не надеешься? - быстро, немного пренебрежительно спросил отец и, затянувшись, проговорил: - А не надеешься - и командовать никогда не будешь... По поводу фатализма... - обратился он к учителю музыки. - В нашей военной службе, да и во всякой службе не фаталист не может сделать карьеры... Под Германштадтом наш полк, - отец бросил взгляд на сына, - стоял на левом фланге. Я тогда был еще командиром эскадрона, а командиром полка мой же дядя был. Я считался непокорным офицером. Никакого непокорства не было, но раздражали нелепые распоряжения. Ну-с... Так вот, сижу я на своем Черте...
- Папина лошадь, - подсказала мать.
- ...и говорю офицерам... А так, с косогора, нам вся картина как на ладони видна: стоит в долине авангардом каре венгерцев - человек тысяча, два орудия при них, а за ними остальной табор - тысяч четырнадцать. С этой стороны по косогору наши войска. Я и говорю: "Вот сбить бы с позиции это каре да под их прикрытием и двинуть вперед; без одного выстрела подобрались бы". Командир и говорит: "Тут целый полк перебьешь, пока до этого каре доберешься только". Заспорил я с ним, что с одним своим эскадроном собью каре... конечно, в сущности, какое ж это войско было? Пушки дрянные, ружья... да и войско-то: сапожник, шарманщик, франт... так - сброд. А наши ведь: николаевские. Дядя и говорит: "Э, сумасшедший человек! Мелешь чепуху, потому что еще пороху как следует не нюхал, а послать тебя, так тогда бы и узнал..." Как будто отрезал! Подлетает адъютант главнокомандующего и передает приказание выслать эскадрон против каре. Я, долго не думая, и говорю дяде на ухо: "Ну, дядя, выбирай: или дай мне возможность делом смыть твои слова с моей чести, или я должен буду выбрать другой какой-нибудь способ искать удовлетворения..." Говорю, а сам и бровью не моргну. А дядя уж был семейный, - как стоянка, сейчас жене письма... дети уж были, - какая там дуэль! Покосился он на меня вроде того, что за черт такой к нему привязался, плюнул и говорит, обращаясь к офицерам: "А что, господа, признаете за ним право идти в атаку?" Неприятно, конечно: всякому хочется, ну, а действительно так ловко вышло, что право-то за мной. "Ну, говорит, будем любоваться, как ты умудришься смерти в глотку влезть да вылезть оттуда. Кстати уж скажи - куда и на сорокоуст отдать: ведь, кроме меня, за тебя-то, бешеного, и молиться некому".
Отец усмехнулся и несколько раз энергично затянулся.
Тёма так и замер на своем месте.
Раскурив трубку, отец боковым взглядом посмотрел на сына и продолжал:
- А молиться-то за меня и в самом деле некому было: я сиротой рос... Ну-с... Подскакал я к своему эскадрону: "Ребята! Милость нам - в атаку! Живы будем, от царя награда, а от меня хоть залейся водкой!" - "Хоть к черту в зубы веди!.." Скомандовал я, и стали мы заходить... А так: овраг кончался, и этакий холмик стоял в долине, - я и хотел было за ним выстроить эскадрон и тогда уже сразу развернутым фронтом ударить на каре. Тут как тут, смотрю проклятая речушка, - не заметил, надо бы правой стороной оврага спускаться... - дрянь, сажени три, а топкая. Сунулся один, увяз, - уж по лошади пролез назад... Нечего делать, пришлось идти до мостика и уж в открытом месте переходить речку: мостик жиденький, только-только одному в поводу пройти с лошадью. Заметили... Сейчас же, конечно, огонь открыли... В движении, на ходу не чувствуешь как-то этой тоски смерти: ну, свалится лошадь, сорвется человек с седла - не слышно. А тут упадет и стонет. Вижу, у солдатиков уж дух не тот. Ну, и самому-таки и жутко и неловко: как-никак виноват. Нечаянно зло сделаешь, пустое, и то мучит, а здесь ведь жизнь человеческая: тут, там пятнадцать человек уложили, пока переходили, - всё на твою совесть. Повернулся я к солдатам - смотрят покорно, конечно, а тоже ведь всё понимают. Так как-то вырвалось: "Ну, братцы, виноват - оплошал! Жив буду - заслужу, а теперь не выдавайте!"
Отец затянулся.
- Встрепенулись... "Отцом был - не выдадим!" Конечно, николаевские времена: с человеком, как со скотом... Ласку ценили... Ну, и меня, конечно, тронуло. Да и минута ведь какая же! Может, и сам уже стоишь перед своим смертным часом... Прямо - отец, а это твои дети: и не то, чтобы жаль, а так как-то, вот за каждого самого последнего солдата, как за самого родного, вот сейчас всю душу свою положить готов. И у всех такое же чувство... вот какое только после причастия бывает... Нет, сильнее! Ну вот, точно вдруг само небо раскрылось и сам господь благословил нас и дал нам одно тело, одну душу и сказал: идите. Куда и страх девался! Под огнем, а как на плацу построились. И картина же действительно! Уланы... Один к одному - красавцы на подбор!.. Чепраки малиновые... Лошади вороные... Солнце блестит, в небе ни тучки... двадцать пятое июля... наши войска как на ладони... Эх!! Нет уж того, что было, теперь нет и не будет. Впереди смерть, ад... тысячи ружей в упор, десять смертей на одного, а на душе, как тронулись, точно прямо в рай лететь собрался.