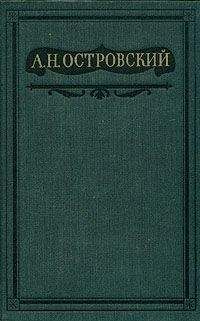Сергей Сергеев-Ценский - Том 1. Произведения 1902-1909
— Да это в какой губернии? — с улыбкой спросил дед.
— Тамбовской губернии, Кирсановского уезда, село Бабинка… Богатое село! Пятьсот дворов, две церкви, спишешная фабрика есть… У нас как же, у нас слободно… Тоже вот так лес есть, река, небольшая хоть — Ломша, — ну, рыбы в ней — сила темная!.. С наметкой в половодье пойдешь, брат ты мой! Еле выволокешь.
— Все тина одна, — насмешливо подсказал дед.
— Тина… как же… — обиделся солдат и, помолчавши, добавил: — Дичи тоже по болотам чертова бездна… Здесь куды, здесь и звания того нет… Из города из Кирсанова охотники приезжали. Палят, бывало, палят, суток по три… страсть набьют!
— Вот придешь со службы, сам палить будешь, — ввернул дед.
— Я-то? Нет! Бог с ней, с охотой… Не люблю я это, птицу стрелять, — пущай гомозится…
— У вас что же счас, праздник все считается? — перебил дед.
— Ну да, праздник… ученья нет, слобода… Я и говорю: другие по улицам пошли, а мне надоело, ну их совсем!
— Та-ак… — согласился дед.
— А мальчонка это што, твой помощник? — кивнул солдат на Саньку, сидевшего в прежней изучающей позе.
— Это? Мнук мой названый… сиротка… Помощник-то из него, положим, как из тюля пуля, — только картошку есть умеет… Что сидишь, глаза упулил? Поди коров отгони! — вспомнил вдруг дед.
Санька не сразу поднялся. Он долго выискивал глазами виновных коров, считал их и взвешивал, стоит ли из-за них беспокоиться; но новый оклик деда показал, что он не шутит. Санька обмотал кнут кренделем около шеи, медленно поднялся, медленно отошел, потом вдруг взбрыкнул ногами и во всю прыть помчался к стаду.
Через минуту со стороны опушки донесся его звонкий негодующий крик:
— А куды!.. А куды, штоб ты сдохла, окаянная твоя душа!.. А куды!
И щелканье гибкого кнута было похоже на пистолетный выстрел.
Со стороны стада пахло теплым парным молоком и навозом, со стороны леса — молодыми глянцевитыми листьями, цветами, мелкими болотцами.
На низине, за опушкой, кричали чибисы, точно плакали маленькие дети.
Иногда они вылетали на поляну и тогда в чистом, синем воздухе казались то черными, то белыми, яркими, кривыми лоскутами.
Высоко над поляной вились жаворонки, и трели их напоминали и трепетанье их крыльев, и тихое сверканье листьев, омытых дождем, и запах фиалок.
Вдали струился воздух; вблизи на всем лежала дымка, тонкая, светлая, нежная, нежнее утреннего тумана, и в этой дымке как-то непостижимо растворялись зеленые тени и светлые пятна, тонкие запахи цветов и раскаты зябликов, прозрачные крылья мохнатых желтых шмелей и красненькие, черноточечные спинки божьих коровок.
Из-за леса тонкими струями лился колокольный звон…
Когда Санька вернулся к костру, солдат говорил деду горячо и убежденно:
— Убить ее, суку, за это мало, а не то что по головке гладить! — и тыкал в деда засаленным письмом с часто насаженными каракулями.
— Тоже ты мудрен больно — убить! Не живой она человек, что ль? — приподнявшись на локте, говорил дед.
Солдат был краснее, чем прежде, и клочок серой бумаги плаксиво дрожал в его руке.
— Как взводный, земляк мой, читал, кругом ребята стоят, смеются, зубы скалят: «С прибавлением семейства, говорят, тебя, Монаков! Зови в крестные!..» Нешто мне это приятно, скажи, пожалуйста?.. Подрался я там за это с одним… — хмуро добавил солдат.
— Это все от глупости, — невозмутимо и серьезно объяснил дед. — Спасибо должен бы сказать, что не зевает… Это третий, говоришь?
— Ну да, третий.
— И все мальчишки?
— Все мальчишки… Иван, Петра, а этот — Семен.
— Ну вот те и помощники… Приедешь, а они уж готовые.
— Да ведь чудак ты тоже, — чьи они? Шут их знает!.. Ведь в отпуска-то я не ездил. Вот что обидно! — с сердцем плюнул наземь солдат.
— Чьи, чьи!.. Божьи, вот те и чьи!.. Подумаешь, важное дело какое: чьи?.. Отцом будут кликать, и ладно. Главное, что помощники… Я вот лет шесть, как сюда в Панино-то пришел… Приехал, скажем, назад с Кавказа, в Батуме служил, и схватил я, брат, там лихорадку… Трясла и трясла подлая; так с ней и приехал. Время летнее, все на поле, как есть некому за мной походить… Лежу на печке, — пить хочется смерть, а подать некому… Вижу, вот этот самый Санька по полу путешествует… Я к нему: «Санька, мол, дай воды, сделай милость!..» Шел ему тогда третий год, не говорил еще ни аза, так, мамакал… И что ж ты думаешь? Ведь понял! Гляжу, тащит кружку больше себя ростом, вон оно как!
Санька, услышав про этот основательно забытый им подвиг, просиял и сконфузился.
— Это ты верно, — согласился солдат, — это ты диствительно: помощники… Хозяйство у нас порядочное… Пахать выедут со времем… Это ты правильно… Только вот ребята смеются.
— А ты наплюй!.. Небось живо отлипнут.
— Это так… Если не злиться, — отлипнут… Ну, и в селе у нас тоже не помилуют, как приедешь: в отделку засмеют.
— За-сме-ют… А ты возьми да сам смейся.
— Как это — смейся?
— Так, очень просто: смейся да и все… Вот, мол, так жена у меня — хват! Целых трех наследников мне приготовила… Главное, не злись, а смейся!
— И в сам деле правда.
— Жену поучи, потому что не по закону. Ну, тоже не очень учи: баба молодая, кругом народ, соблаз… А с мужиками смейся… Вот те и все.
— Мозговитый ты, дед, оказался, ей-богу мозговитый! — повеселел солдат. — Давай-ка мы с тобой водочки выпьем за хорошее знакомство. — Он достал из широкого кармана начатую бутылку.
— Значит, на солдат наплевать?
— Ну да, наплевать.
— А с мужиками смеяться?
— Конешно.
— А жену за хвост, — не балуйся?
— Само собою.
— Ладно… А закусить у тебя есть что?
— Найдем… Авось не паны, закусим.
Солдат улыбался весело и довольно, устанавливая на траве бутылку; дед выкатывал палкой из костра печеные картошки, сильно пахнущие дымом и с обгорелыми боками; Санька жадно смотрел на обоих.
Солнце лениво ползло по небу, чуть заметно опускаясь к горизонту.
Из легкого тумана выступил белый железнодорожный мост с открытой темной, глубокой пастью, мост далекий и оттого казавшийся призрачным. К нему приближался, свистя и дымя, длинный товарный поезд. В колыхавшейся внизу дымке ясно отражались его вагоны с бегущими колесами, и казалось, что идут два поезда — один вверху, другой внизу, а колеса у них общие.
Дед рассказывал солдату о Кавказе и Сибири, которую он прошел до Иркутска, и Саньке очень хотелось слушать, но помешали коровы. Ими густо расцветилась вся опушка, и от их движений дрожали кусты.
Когда Санька снова подошел к огоньку, бутылка была почти пуста. Глаза у солдата потускнели, и усы обвисли, а у деда отяжелели и опустились густые брови.
— Так-то оно так, — говорил солдат, — и баба молодая и я на службе, а все-таки это нехорошо она поступает, — грех!
— Вот грех! — ухмыльнулся дед. — Грех в орех, а зернышко в рот… Какой там грех!.
— Нет, это ты напрасно, — обиделся солдат, — попу на духу все ведь придется отвечать, не скроешься.
— Попу! Скажешь тоже! Сам-то он чем лучше?
— Что это ты, дед, все врешь? Право, ей-богу, тошно слушать! Старый ты человек, а все врешь!
На лице солдата выступили одновременно изумление, негодование и жалость.
— Нет, ты постой, ты не тоскуй, парень, — ухмыльнулся дед. — Ведь сказано в Писании, что человек от земли произошел?
— Ну?
— А душу-то ему бог от себя вдунул?
— Ну?
— Ну вот, ты и замечай, — заранее торжествуя, замигал бровями старик. — Умер человек, я, примерно, — и ведь земля в землю, ведь это земля все? — ковырнул он себя по груди коричневым пальцем.
— Ну? — согласился солдат.
— Ну и выходит, земля в землю, а душа предстанет перед судищем… душа-то, понимаешь? Душу, значит, и будут судить, а ведь она — божья? Разве я ее сам такую на базаре купил? Ее бог вдунул, — чего ж ее судить? А тело-то суди не суди, оно все — земля, землей и будет… Выходит, что и судить-то некого, понял? Так я говорю?.
— Врешь ты все! — мрачно процедил сквозь зубы солдат, и лицо его вдруг стало темным и злым.
— Чем же врешь-то? — серьезно спросил дед.
— Тем врешь!.. Молокан ты, должно? — исподлобья взглянул солдат.
— Молокан? Какой молокан? — засмеялся дед.
— Такой, какие бывают… У нас в Тамбовской губернии вас, таких-то, много, чертей… Молоко в пост лопают…
— Что ж ты ругаешься? — миролюбиво протянул дед.
— И про бабу тоже… То да се… лясы точишь… Знаем мы вас, чертей!.. Снохач!
Солдат поднялся с земли и стал перед дедом круглый и крепкий, с остеклелыми глазами.
— Глуп же ты, как я посмотрю, не приведи господи! — искренне удивился дед и поднял густые брови.
— Снохач и есть!.. Что прикидываешься дохлым бараном? Хочешь, по морде садану? — наступал солдат.
Красные руки его сжались в кулаки и остеклелые глаза тупо уперлись в деда.